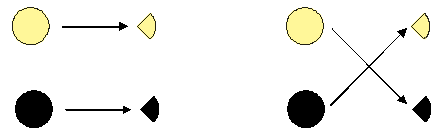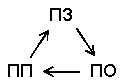Ó
О.Я.Бондаренко, 2014.
О битвах-призраках и трех
принципах в истории
"Кто не
знает прошлого,
тот не
знает ни настоящего,
ни
самого себя". Вольтер
В
последние годы я предпочитаю не читать исторические романы, во всяком случае,
созданные авторами спустя эпоху после описываемых событий. И стараюсь не
смотреть исторические фильмы, тем более костюмные боевики, а если и смотрю, то
не отношусь к ним серьезно, несмотря на тщательность воспроизведения в
некоторых случаях исторических деталей. Тем не менее, историю я очень люблю,
точнее, уважаю, и воспринимаю ее живо, с интересом. Возможно, поэтому ее
современная – или более поздняя – трактовка вызывает у меня в целом чувство
отторжения.
Дело, конечно, не в том, что я – какой-нибудь
там зануда. Просто у меня есть большие сомнения относительно реальной ценности
предлагаемых произведений, с сущностной точки зрения. То, что отражается в них,
– не история. Исторический антураж – это лишь внешняя сторона действа, которая,
как известно любому театральному постановщику, на самом деле не обязательна
для того, чтобы передать внутренний мир героев. Именно о внутреннем
исторических персонажей мне бы и хотелось поразмышлять в данной статье.
Принцип
перенесения.
Он очень прост, до смешного прост. Берется мир, современный автору, и
переносится куда-нибудь в прошлое, но с поправкой на обстановку, костюмы,
известные обычаи и т.п. – так, что в целом создается впечатление
исторического произведения, которое, однако, никакого отношения к подлинной
истории не имеет. «За кадром» остаются оригинальные интересы тех, кто
действительно жил в заявленное время, их психология и мотивация, их манера
мышления, разговора, общения, их комплексы и стереотипы поведения, их
неписаные законы и табу, а также, с другой стороны, программные установки на
совершение каких-либо действий в запланированных и незапланированных ситуациях.
Причем хорошо, если автор отдает себе в этом отчет и заведомо ставит цель не
натурального воспроизведения прошлого, а иносказательного рассказа о настоящем
– как, например, было с романом Р.Джованьоли «Спартак», написанном в разгар
гарибальдийского движения за объединение Италии. Хуже, если автор переносит
известный ему мир на прошлое неосознанно, как делали в свое время Б.Прус,
Г.Сенкевич, Р.Хаггард, В.Скотт, М.Твен, В.Ян и другие – хуже, естественно, с
точки зрения воссоздания аромата подлинной истории, а не читательского
интереса вообще, который эти авторы, безусловно, сумели пробудить.
Проблема, однако, не только в том, что
воссоздать один к одному античную и средневековую реальность – с позиций ее
скрытого, внутреннего содержания – спустя годы невозможно. Проблема еще и в
том, что на самом деле это никому не
нужно. Объективность в истории зачастую никого не касается. Очень может быть,
что вся история – вплоть до последнего исторического фактика – зиждется
исключительно на субъективном подходе.
По поводу романов,
на мой взгляд, прекрасно сказал в свое время Андрэ Жид, выдающийся французский
писатель и Нобелевский лауреат: «Большинство людей, и даже лучшие из них,
никогда не встречают благосклонно произведений, в которых есть нечто новое,
необычное, озадачивающее, приводящее в замешательство; на благосклонность
может рассчитывать только то, что содержит в себе узнаваемое,
то есть банальность» (А.Жид. «Возвращение из СССР»). Именно это узнаваемое
лежит в основе принципа перенесения. Мы сознательно или бессознательно
переносим в прошлое то, что можем узнать, опознать, а потому – понять и
принять, то есть то, что доступно
нашему разумению. И ничего больше! Мы в состоянии поверить, что египетские
пирамиды строили рабы из-под палки, но субъективно отказываемся признавать,
что сотни тысяч египтян добровольно
стремились принять участие в строительстве, почитая это за великую честь. Мы
уверены, что ацтеки насильно приносили людей в жертву своим кровавым богам, не
допуская даже мысли о том, что желающие, чтобы у них вырвали сердце,
выстраивались в очередь. Мы считаем нелепым террористический акт Желябова и
Перовской в отношении Александра
II,
не умея оценить желание ранних революционеров самоутвердиться
и наметить веху смены эпох, ибо убить царя – значило разрушить вековой порядок,
данный людям от Бога.
Итак, перенесение на прошлое только
узнаваемого нами. Приписывание населению давно ушедших миров наших собственных
мыслей и нашего видения ситуации. Мы не ожидаем, что люди в исторических
эпизодах действовали в соответствии с их ни на что не похожими побуждениями;
нам надо, чтобы они действовали так, как, мы полагаем, они должны были действовать, исходя из нашего – а
не их! – мировоззрения.
Поэтому если бы на свет родилась подлинная
историческая книга – отражающая давно минувшую жизнь и давно прошедшие события
вне привычной нам схемы, то есть странно для нас, непоследовательно и
необъяснимо, а то порой и неубедительно, – ее бы попросту не стали читать.
Однако нам мало перенести в историю наш
собственный внутренний мир, то есть – скажем так – воспринимаемое нами
настоящее. Часто мы проецируем на убегающие времена наше собственное,
индивидуальное прошедшее, которое определяет наш личный жизненный опыт.
Давайте введем некий условный термин
человеческое начало. Пусть это будет совокупность всех положительных свойств,
качеств, присущих человеку – да и любому мыслящему, тонко чувствующему
существу. Человеческое начало включает в себя опыт в хорошем смысле слова,
память о лучшем, положительные эмоции, основы общечеловеческой морали и
нравственности, юстициальное сознание,
эстетическое начало, умение видеть, ощущать различие и сходство (то есть
врожденная способность к анализу) и вообще всё то, что вытекает из сути
понятий «Человек», «человечность». Человеческое начало всегда направлено на
созидание.
Человеческое начало по определению может быть только положительным, и в этом
смысле оно асимметрично (плюс – минус как символ зеркальности,
противоположности, симметрии в данном случае не допускаются: «отрицательное
человеческое начало» есть по существу уже начало не-человеческое). Поэтому
человеческое начало в представителе вида homo sapiens
никогда не растет, оно заложено изначально, так сказать, в предельном объеме,
являясь данностью,
и может в дальнейшем лишь уменьшаться либо пульсировать, то есть уменьшаться и
увеличиваться в пределах изначальной, отпущенной человеку чем-то высшим нормы.
У одних людей – и групп людей –
человеческое начало может быть сильнее выражено, то есть оно ближе к норме, у
других – слабее (норма однозначно не соблюдается). Но парадокс в том, что и в
каждом отдельном индивидууме уровень человеческого начала не является
статичной, неизменной величиной. Чем больше в жизни негативного опыта и
отрицательных эмоций, боли, стрессов, шоков, болезненных переживаний, тем в
целом циничнее, равнодушнее, злее, безжалостнее, наконец, ленивее или
пассивнее
становится со временем человек – не в каких-то конкретных эпизодах, а по
усредненному отношению к жизни вообще. И, следовательно, тем меньше в нем
остается сугубо человеческого, включая и способность мыслить категорией
различия и сходства.
Покажем это на рисунке:
 Основная тенденция – в постепенном
уменьшении человеческого начала в течение жизни, хотя, разумеется, у каждого
человека этот процесс является уникальным, то есть он неповторим во времени и
[духовном] пространстве:
Основная тенденция – в постепенном
уменьшении человеческого начала в течение жизни, хотя, разумеется, у каждого
человека этот процесс является уникальным, то есть он неповторим во времени и
[духовном] пространстве:
 Примечание.
О критериях оценки человеческого (человеческого начала) на данной схеме можно
спорить, но главное – понять суть того, что имеет в виду автор.
У
индивидуумов X,
Y,
Z,
… графики будут иметь неповторимые очертания – они говорят нам об
индивидуальном прошлом (пережитом) каждого человека, с сущностной точки зрения,
и не совпадают так же, как не совпадают отпечатки пальцев у людей.
Парадокс, однако, в том, что сам человек чаще
всего не замечает происходящее в нем постепенное отклонение от
общечеловеческой нормы, то есть снижение уровня человеческого начала. Или не
придает этому значения. Почему это так? Видимо, природа позаботилась о
сохранности нашей психики – человеку присуще т.н. оправдательное мышление, заставляющее
оправдывать каждый свой шаг, свои действия и ход своей мысли. Оправдательное
мышление, например, приводит к тому, что мы судим других людей по их поступкам,
а себя – по своим намерениям. Лично для нас со временем не меняется ничего,
наоборот, мы становимся мудрее, предусмотрительнее и т.д.; здесь не берется во
внимание, какой ценой – умственной и эмоциональной – достигается наша
жизненная «премудрость». В одной из работ («Закон мухи») автор рассматривает
закон, согласно которому мы не способны адекватно воспринять уровень, который
превышает наш собственный, и всегда будем оценивать высшее
по себе.
Поэтому при постепенном снижении текущего
уровня человек не отдает себе в этом отчет, но, естественно, у него
складывается смутное впечатление, что раньше – на начальном этапе его жизни –
что-то было выше, лучше, созидательнее, красивее. Не видя проблем в самом себе
и причин происходящего процесса, человек начинает искать объяснение не во внутреннем,
а в чем-то внешнем,
то есть в данном случае – своем окружении либо эпохе, в которой ему довелось
когда-то жить и действовать. Так возникают мифы на тему: «Да, были люди в наше
время…»
Возвращаясь к принципу перенесения в истории,
мы можем продолжить начатый разговор следующим образом: человек переносит на
прошлое – имеется в виду общечеловеческое, историческое прошлое – не только
свое настоящее, то есть свой настоящий внутренний мир, но и внутренний мир,
который был присущ ему как индивидууму в собственном, личном недалеком прошлом.
Иными словами, не только сегодняшнее узнаваемое, но и узнаваемое вчерашнее,
которое, как правило, для индивидуума чуточку лучше сегодняшнего. Отсюда: мир
древности по многим показателям кажется прекраснее
современного мира. Скажем, в прежние эпохи крепче любили, сильнее дружили,
веселее проводили время, ярче воспринимали действительность, меньше обманывали
и предавали, чаще включали свой мыслительный аппарат и т.д. и т.п.
Таким
образом, мы имеем два типа перенесения – простое перенесение и перенесение с
расширением:
Примечание.
О критериях оценки человеческого (человеческого начала) на данной схеме можно
спорить, но главное – понять суть того, что имеет в виду автор.
У
индивидуумов X,
Y,
Z,
… графики будут иметь неповторимые очертания – они говорят нам об
индивидуальном прошлом (пережитом) каждого человека, с сущностной точки зрения,
и не совпадают так же, как не совпадают отпечатки пальцев у людей.
Парадокс, однако, в том, что сам человек чаще
всего не замечает происходящее в нем постепенное отклонение от
общечеловеческой нормы, то есть снижение уровня человеческого начала. Или не
придает этому значения. Почему это так? Видимо, природа позаботилась о
сохранности нашей психики – человеку присуще т.н. оправдательное мышление, заставляющее
оправдывать каждый свой шаг, свои действия и ход своей мысли. Оправдательное
мышление, например, приводит к тому, что мы судим других людей по их поступкам,
а себя – по своим намерениям. Лично для нас со временем не меняется ничего,
наоборот, мы становимся мудрее, предусмотрительнее и т.д.; здесь не берется во
внимание, какой ценой – умственной и эмоциональной – достигается наша
жизненная «премудрость». В одной из работ («Закон мухи») автор рассматривает
закон, согласно которому мы не способны адекватно воспринять уровень, который
превышает наш собственный, и всегда будем оценивать высшее
по себе.
Поэтому при постепенном снижении текущего
уровня человек не отдает себе в этом отчет, но, естественно, у него
складывается смутное впечатление, что раньше – на начальном этапе его жизни –
что-то было выше, лучше, созидательнее, красивее. Не видя проблем в самом себе
и причин происходящего процесса, человек начинает искать объяснение не во внутреннем,
а в чем-то внешнем,
то есть в данном случае – своем окружении либо эпохе, в которой ему довелось
когда-то жить и действовать. Так возникают мифы на тему: «Да, были люди в наше
время…»
Возвращаясь к принципу перенесения в истории,
мы можем продолжить начатый разговор следующим образом: человек переносит на
прошлое – имеется в виду общечеловеческое, историческое прошлое – не только
свое настоящее, то есть свой настоящий внутренний мир, но и внутренний мир,
который был присущ ему как индивидууму в собственном, личном недалеком прошлом.
Иными словами, не только сегодняшнее узнаваемое, но и узнаваемое вчерашнее,
которое, как правило, для индивидуума чуточку лучше сегодняшнего. Отсюда: мир
древности по многим показателям кажется прекраснее
современного мира. Скажем, в прежние эпохи крепче любили, сильнее дружили,
веселее проводили время, ярче воспринимали действительность, меньше обманывали
и предавали, чаще включали свой мыслительный аппарат и т.д. и т.п.
Таким
образом, мы имеем два типа перенесения – простое перенесение и перенесение с
расширением:

Перенесение с расширением больше характерно
для неосведомленных
людей, например, пассивных читателей романов, да и вообще потребителей любой «исторической
продукции».
Простое
перенесение характерно для большинства сведущих, например,
специалистов-историков, которые прекрасно понимают, что «раньше не было лучше».
В
последние десятилетия весьма продвинутая на Западе наука история начинает всё
больше понимать, что речь нужно вести не о расширении, а, наоборот, о сужении,
– грубо говоря, в минувшие эпохи всё было в целом скорее хуже, чем сегодня. Об
этом, скажем, свидетельствуют недавние открытия археологов в Мексике и
Гватемале (сообщение Ассошиэйтед Пресс от 15.10.2014 г.: «Мезоамериканские
цивилизации
были более кровожадными и менее демократичными, чем это считалось ранее»). Или
облетевшая весь мир в октябре 2014 г. весть об истреблении вида
homo sapiens neandertalensis
– параллельной ветви разумных существ – видом
homo sapiens sapiens,
то есть нашим с вами видом, 30 тыс. лет назад.
От перенесения с сужением – прямой путь к
отказу от принципа перенесения вообще. Невозможно в перспективе переносить
наше настоящее мировосприятие и мировоззрение на отдаленную часть истории без
понимания того, что тогдашние условия и обстоятельства требовали от людей
иного набора поведенческих реакций и предполагали мотивацию действий,
значительно отличающуюся от узнаваемой
нами.
Но было
бы преждевременно говорить об отказе от принципа перенесения в сегодняшней
научной исторической литературе. Пока что этот принцип живет и здравствует не
только в романах и фильмах – костюмных боевиках. Более скромный и более
корректный в специфических областях исследования, он, тем не менее, лежит в
основе определенных парадигм. Скажем, этот принцип активно использовался
марксистскими историками. Известна позиция Карла Маркса и Фридриха Энгельса,
принятая на вооружение большевиками: «Политика есть концентрированное
выражение экономики». Став на такую точку зрения, на первый взгляд, бесспорную,
мы тем самым неизбежно придем к поискам экономических (хозяйственных,
финансовых, вытекающих из необходимости получения выгоды) побудительных причин
практически в любой акции, оставившей свой след в истории, – естественно, с
учетом развитости и материальной заинтересованности различных социальных групп,
народов и государств прошлого. В случае если экономических побудительных
причин выявить не удается, мы считаем, что причины эти на самом деле скрыты, и
дело, кажущееся поначалу простым, требует более детального рассмотрения.
Так на
практике действует принцип перенесения – в данном случае марксистского
экономического мировоззрения на все возможные сценарии развития исторических
событий.
Между
прочим, марксистский подход, который коротко можно охарактеризовать как
cherchez l’interess,
во многом верен и многое объясняет в истории. Но всё ли? Он, без сомнения,
прекрасно вписывается в европейскую политику нового времени – эпохи
колониализма и бурной капитализации. Его, с известной натяжкой, можно принять
для понимания стратегии развития поздней древнеримской республики и Римской
империи. Но как быть, например, с эпизодом о похищении римлянами сабинянок?
Или с историей Троянской войны?
Или, наконец, с многолетней враждой двух знатных семей из Вероны – Монтекки и
Капулетти? В каждом из этих случаев возникала напряженная обстановка,
определявшая дальнейшее развитие ситуации, в том числе с политической точки
зрения. Вообще войны из-за женщин, из-за желания отомстить, самоутвердиться, «что-то
кому-то доказать», войны по причине гордыни, войны «по графику»,
войны «обиженных» и «неправильно понятых», войны за «восстановление
справедливости», войны «в силу данного слова», войны-поединки, да и просто
войны, спровоцированные безумными правителями,
никак не укладываются в классическую марксистскую схему. Я не говорю уже о
религиозных войнах. Нередко в исторических исследованиях проводится мысль, что
та или иная религиозная война в действительности вызывалась борьбой за сферы
влияния и обуславливалась чьими-либо интересами; видимо, это и правда, и нет.
Религиозных войн было невероятное множество, они затрагивали совершенно разные
религии, разные общества, находившиеся на разных ступенях социального развития,
и во всем этом разнообразии, несомненно, встречались эпизоды, основанные на
чистом фанатизме либо – что едва ли не хуже – на элементарной глупости и
эмоциональной несдержанности, когда чей-то призыв: «Мужики, бусурмане наших
бьют!» мог определить ход истории на долгие годы.
К тому
же история не состоит из одних войн. Войны – просто концентрат непредсказуемых
событий, которые в иное время более равномерно разбросаны на поле хронологии.
И события «мирного времени» прошедших лет часто не становятся для нас более
понятными.
Марксистский взгляд, экономизированный донельзя, отнюдь не является
единственным примером использования принципа перенесения. Глубоко верующие
авторы-историки – приверженцы ортодоксальных направлений в религии также часто
переносят на предмет исследований свое собственное видение и толкование
ситуации, обусловленное их набожностью и сознанием внутренней правоты. Это тем
более было характерно для летописцев прошлого, которые могли в упор «не
заметить» выдающийся факт их современности, не связанный напрямую с
религиозным мировоззрением, но уделить преувеличенно большое внимание событиям
в действительности мелким и никчемным – как, например, большинству поздних
крестовых походов, которые никак не повлияли на тогдашнюю расстановку сил.
Особенно грешат принципом перенесения
националистически настроенные авторы. Их подсознательная идея заключается в
том, чтобы видеть
в прошлом лишь то, что может быть узнано, опознано и в силу этого – объяснимо.
И ничего кроме. Так, например, если две страны не могут найти общий язык по
какому-нибудь территориальному вопросу, то с каждой из сторон появляются
соответствующие исторические исследования, в комплексе
освещающие проблему односторонне, – но узнаваемо
для «своих» (многочисленные примеры автор приводит в своей книге «Неизвестные
Курилы». – М., Внешторгиздат-Дейта-пресс, 1992).
Подавляющее большинство школьных учебников
истории в разных системах образования написано по принципу перенесения. Об
этом, например, очень хорошо и остроумно поведал французский исследователь
М.Ферро в книге «Как рассказывают историю детям в разных странах мира» (М.,
Высшая школа, 1992). В истории вообще можно замечать только интересное
– для себя, со своей личной позиции или позиции своей группы. Допустим,
игнорировать большинство событий, происходивших за пределами европейского мира
(т.н. европоцентризм), потому что в прошлом Китая для европейцев куда меньше узнаваемого,
чем, скажем, в прошлом Британии или франкских земель.
Переносить
на чужое, непонятное свое собственное целостное, законченное восприятие мира и
себя в нем – так сказать,
свою матрицу
– можно с каких угодно позиций: классовых, религиозных, шовинистических,
гендерных
и т.д. и т.п. И вовсе не обязательно ограничиваться здесь одной историей.
Принцип перенесения действителен как во времени, так и в пространстве. Мы
сплошь и рядом сталкиваемся с попытками судить о намерениях и действиях других
людей (других обществ, других стран
etc)
исходя из той модели действительности, которую мы сами создали у себя в голове.
Иногда это оправдано – в случае, если, так сказать, наш обоюдный уровень
мышления совпадает, но порой подобный подход дает сбой. Старый твердолобый
коммунист, ветеран и активист всех советских общественных движений в прошлом
будет упорно стоять на том, что «Запад-де хочет нас захватить и поработить», и
ему невозможно доказать обратное, потому что он мыслит по схеме,
выработавшейся в годы противостояния. В конце концов он сам по молодости – и случись такая оказия!
– захватил бы и поработил бы проклятый Запад. Поэтому в конечном счете он
судит по себе.
Принцип
перенесения живуч. Возможно, именно он отвечает за половину всей идеологии, на
которой воспитано население земного шара.
Принцип
замещения. Этот
принцип довольно хорошо известен этнографам и историкам, специализирующимся на
ранних периодах жизни человечества, в частности на изучении первобытных
культур.
Принцип
замещения прямо вытекает из принципа перенесения, являясь его закономерным
следствием или, если хотите, логическим продолжением:
ПП
®
ПЗ
В чем
смысл принципа замещения? Прежде всего, надо отметить, что подобный термин – «принцип
замещения» – встречается не только в исторической науке, но и в ряде других
гуманитарных дисциплин (например, в экономике); мы же в данном случае будем
рассматривать его сквозь призму представлений о том, как жили и воспринимали
мир наши предки – в историческом и, возможно, географическом аспекте.
Здесь
мне хотелось бы сослаться на прекрасную этнографическую работу Ю.Липса «Происхождение
вещей» (в редакции Е.Смирницкой. – М., «ННН», 2014). Кое-что процитирую: «…Люди
в первобытности не существовали порознь. Община как бы составляла единый
организм. Она сообща владела землей, которая служила ей охотничьей территорией
и, следовательно, источником пропитания. Она сообща охраняла эту территорию от
посягательств извне, и преступавший границу племени «чужой» предавался смерти…
Земля [первобытного человека] – его мир, который мыслится как обустроенное и
пригодное для жизни место…, за пределами которого – страшный и непонятный хаос,
куда попасть чрезвычайно опасно. Именно там помещаются все разрушительные и
враждебные человеку силы, оттуда приходят болезнь и смерть… Люди, которые…
окружают [первобытного человека], его община – это и есть «настоящие люди» или
даже единственные люди на земле… Представители другой общины или племени,
живущие за пределами «своей» территории – это «не-люди», чужие, враги (это
враждебное и боязливое отношение к чужим, называемое «ксенофобией», –
чрезвычайно стойкое свойство человеческой природы и присуще современному
человеку почти в той же степени, что и первобытному). Человек вне своей общины
тоже словно бы перестает быть человеком, поэтому самым страшным наказанием в
древности, равносильным смерти, было изгнание провинившегося из коллектива…
Сообща
община выступает в личном деле каждого своего члена как обвинителем, так и
ответчиком. Это видно, например, в сохранившемся вплоть до позднего времени
обычае кровной мести. Обязанность каждого члена коллектива мстить за ущерб,
нанесенный любому его члену, – непререкаемый закон для первобытного общества.
Точно так же весь коллектив несет ответственность за преступление каждого из
своих членов.
Но возможна и обратная замена всего
коллектива одним своим представителем. Например, часто военные столкновения
превращались в поединок между представителями каждой из враждующей сторон.
Эта замена целого какой-либо частью
составляет характерную черту первобытного общества (выделено мной. – О.Б.) и,
как мы увидим дальше, является важнейшим свойством первобытной магии.
Поединки вместо военных столкновений часто описаны в мифах и эпических
сказаниях. Так, например, русские богатыри, сражаясь со своими противниками
всегда в одиночку, олицетворяли при этом весь свой народ…
…Женщины… считались общим достоянием племени.
Это опять-таки хорошо видно по свадебным обрядам. Каждая свадьба – это не «личное
дело» отдельной семьи, но важнейшее дело всей общины. Вся община в лице своих
представителей (сватов) ведет переговоры со стороной невесты,
вся община участвует в свадебном ритуале и наблюдает за правильным его
исполнением. От лица общины выступает особый представитель (дружко
русской свадьбы), который заменяет жениха во многих эпизодах обряда… Публичное
освидетельствование девственности невесты в первую брачную ночь еще до сих пор
– достаточно распространенный обычай…
Единство
общины в отношении к имеющимся в ее распоряжении материальным и духовным
благам, конечно, лучше всего выражается в распределении охотничьей добычи… И в
более поздние времена этот способ распределения материальных благ оставил след
в виде обычая взаимопомощи, предписывающего общине оказывать материальную
поддержку любому своему члену, оказавшемуся в тяжелом материальном положении…
…Ни одна
сторона жизни человека не обходится без… вмешательства [общины]. Трудовые
навыки и супружеские отношения, воспитание детей и почитание духов – всё
должно быть подчинено строгому порядку, на котором зиждется благополучие всей
общины. Для поддержания этого порядка… первоначально не существовало никакой
организации. Силой обычая и общественного мнения регулировались все
бесчисленные правила жизни общины…
Первоначально община могла обходиться без личного предводителя…
Но мы видим, что в некоторых случаях община не могла обойтись без
представителя, выступающего от ее лица. Эта роль, естественно, предоставлялась
наиболее достойным и уважаемым членам общины. Поскольку они должны были быть
сведущими в обычаях и ритуалах, часто они выступали также в роли жрецов, так
как жрец – тот же представитель общины, но перед лицом Бога. По мере роста
влияния таких людей росло и их богатство и власть. Их богатство, правда,
воспринималось не как их личное имущество, но как символ благосостояния всей
общины…»
(«Происхождение вещей». – М., «ННН», 2014, с.124-132).
В этом
большом отрывке мне бы хотелось выделить два момента:
1. Для
некоторой группы людей, очень сильно связанной общим бессознательным – назовем
их связь общинной,
– существует некое устоявшееся, завершенное целое, которое воспринимается как
единственно возможный мир – гармоничный и упорядоченный. Всё в этом мире
узнаваемо. И всё – функционально,
то есть служит для выживания всего сообщества и в силу этого занимает
собственное, отведенное вечностью место.
2. Любая
часть этого целого символизирует собой всё целое, то есть вполне его может
заменять или – скажем еще так – замещать. Ведь эта частичка, по определению,
способствует поддержанию устоявшегося порядка вещей и, следовательно,
направлена на сохранение «настоящего мира».
Что именно, какая частичка в данном случае
подразумевается – не суть важно. В известной степени они все равны, ибо жизнь
общины основана на условном равенстве, равноправии. Общинное мышление нередко
построено по схеме «всё равно всему»; в этом, кстати, заложены истоки
первобытного монизма (мировоззрения, согласно которому бог есть всё, высшее –
везде и всюду, в том числе и в самом человеке; при этом характер
высшего ярко не выражен, то есть мы как бы имеем дело с обезличенным
абсолютным).
Таким
образом, для человека, подчиняющегося общинным «правилам игры», очень важен
символизм, некая условность, которая, впрочем, им самим за условность не
принимается. Можно взять с собой горстку родной земли – и чувствовать себя
спокойно и в безопасности, под защитой «коллективного тыла». Можно послать в
неведомое какого-либо представителя своего рода – и его успех будет
восприниматься как коллективное достижение (вспомним мореплавателей, в
одиночку объявлявших открытые земли собственностью своей «общины», о чем
символизировал, например, установленный флаг или межевой знак).
Итак, любая вещь или любой человек, имеющие
отношение к «своему» – в значении «не-чужому», – олицетворяют собой целое.
Излишне говорить, что целое всегда только одно, всем прочим отказывается в
праве на существование или, по крайней мере, на понимание. «Чужое» может
рассчитывать на лояльность лишь в той степени, в которой оно содержит элементы узнавания.
Любопытно, что подобный общинный подход с его
условностью и символизмом характерен не только для исторических племен и родов
и государств, ушедших в небытие. Его мы можем найти и сегодня, среди нас –
сплошь и рядом, если мы будем искать некие искусственно изолированные
сообщества, вынужденные выживать в относительно экстремальных (для них)
условиях. Я имею в виду, например, армию, тюремные лагеря, замкнутые
профессиональные коллективы, чья деятельность связана с трудностями и
опасностями. Скажем, почти всё в армии основано на условностях – что говорить,
как ходить, как держать себя, в какие отношения вступать внутри «общины» (имеется
в виду как устав, так и неписаные законы и обычаи). И всё направлено на
выживание группы в целом. В армии есть свои символы, например знамя, погоны и
знаки различия, ордена и медали, головные уборы (последние, объективно говоря,
вне полевых условий не играют вообще никакой роли, кроме образного
представления власти). Символичны парады и марши, да и вообще сугубо
специфические движения тела – тот же строевой шаг, столь не свойственный
человеку от природы. Для армии характерна коллективная ответственность, а
также свойство сообща выступать обвинителем в личном деле каждого своего члена.
Так же, как и в классической общине, для военных людей существует лишь один
реальный мир – их собственный, мир, в котором царит строгий порядок, в отличие
от непонятной, полной хаоса и разрушения «гражданки». Наконец, в армии сплошь
и рядом встречается взаимозаменяемость и в силу этого – некая обезличенность,
притупление индивидуального «Я» по сравнению с более ярко выраженным «МЫ»; как
раз это, на взгляд автора, и служит
идеологической основой принципа замещения – замещения целого любой из своих
реальных (или символических) частей.
Кстати,
как и в настоящей первобытной общине, в армии размыто понятие индивидуальной
собственности – в отличие от собственности коллективной, общинной. Даже жизнь
часто не принадлежит армейскому человеку – это, как мы увидим в дальнейшем,
является характерной чертой общин.
Сказанное выше в общем можно распространить и
на тюремный мир, который в такой же степени подчиняется условностям, имеет
свои символы, неписаные законы, обычаи, табу и подавляет индивидуальность
своих членов, делая их по существу
взаимозаменяемыми.
Об условностях в среде людей опасных
профессий также сказано немало. Например, об их слепой вере в приметы.
Спичечный коробок, даже пустой, принесенный с собой в шахту, может вам
обойтись очень дорого, если кто-либо из шахтеров заметит его у вас, – это
всего лишь символ, но ставящий под угрозу выживание сообщества горняков.
Из
сказанного можно сделать вывод, что община – явление не этническое и не
историческое; она просто характеризует определенный уровень развития
человеческих групп вообще (при слабо выраженной индивидуальности – возможно,
подавленной внешними обстоятельствами – люди самопроизвольно организуются в
общины, при росте индивидуального начала общины приказывают долго жить).
Но мы
сейчас говорим об истории человечества, его условном прошлом как таковом, и в
силу этого должны помнить, что общинный строй в той или иной его разновидности
– равно как и общинная психология – являлся самым распространенным на Земле.
Он был «визитной карточкой» Европы и Америки примерно до
XVIII-XIX
веков, России – вплоть до ХХ века, в Азии и Африке он существует и поныне. Что
имеется в виду? Что элементы
общинной организации жизни и общинного способа мышления, на взгляд автора,
пронизывают все рабовладельческие и феодальные культуры с их территориальным
изоляционизмом;
именно «общинный стиль» предшествовал тому типу отношений, которые в более
поздние времена были квалифицированы историками и социологами как национальные
(по мере появления наций
в современном смысле слова). Нечто общинное мы находим даже в обществах
периода первоначального накопления капитала, – скажем, на Диком Западе США с
его организованными переселенцами, не говоря уже о южных рабовладельческих
штатах с их поместным укладом. Что же касается России, то еще сто лет назад
почти 80% ее населения входило в состав крестьянской общины – общины в ее
самом что ни на есть «чистом» виде. И, конечно, пережитки общинных отношений
сказываются и сегодня.
Примерно
то же можно сказать и о развитых ныне государствах Востока: Японии, Корее,
странах – «новых драконах Азии», которые славятся корпоративным образом жизни
и деятельности (следствие исторически неизжитого общинного начала).
Наследие
общины не исчезает в один день. Порой для этого мало и нескольких столетий. В
целом, по мнению автора, для истории человеческих обществ характерно
постепенное уменьшение «общинной зависимости», тем более по мере ускорения
развития исторических процессов; вместе с тем, как мы уже говорили, в
некоторых социальных группах (армии
etc) общинное
сохраняется дольше и в большей степени, что связано со спецификой данных групп.
В каждый конкретный момент времени в каждом
обществе, а порой – и в каждом подразделении общества существует свой
собственный неповторимый уровень привязки к общинному началу. Он может быть
больше или меньше.
Здесь, пожалуй, даже уместно вести речь о некоем коэффициенте, меняющем свое
значение от случая к случаю, от эпохи к эпохе. От этого коэффициента зависят и
масштабы первобытного символизма и условностей. Поэтому, изучая исторические
явления, препарируя их, современные исследователи, вышедшие за рамки общинного
метода мышления, должны делать поправки на то, что одни и те же термины и
понятия в старину и сейчас (в одном обществе и другом, в той социальной группе
или иной) имеют подчас совершенно
разный смысл, в том числе: буквальный, переносный или, может быть, нечто
среднее между ними.
В разной
степени проявляется здесь и принцип замещения целого частью, что мы ни в коем
случае не должны сбрасывать со счетов.
Для
примера рассмотрим некоторые аспекты завоевательных походов Чингисхана (XIII
век), – чтобы сравнить то, как их видели современники, с нашей сегодняшней,
общепринятой трактовкой событий.
Вокруг
этих походов сложилось множество легенд и мифов. Значительная часть историков
даже не пытается их оспаривать, принимая, так сказать, за отправную точку в
рассуждениях о деяниях Великого Монгола. Однако процитирую Л.Н.Гумилева,
позволяющего себе иметь особое мнение: «По поводу взятия монголами
среднеазиатских городов существует вполне устоявшаяся версия: «Дикие кочевники
разрушили культурные оазисы земледельческих народов». Эта версия построена на
легендах, создававшихся придворными мусульманскими историографами…
… [Забавны]
сведения, сообщаемые историками о Мерве.
Монголы взяли его в 1219 г. и… якобы истребили там всех жителей до последнего
человека. Но уже в 1220 г. Мерв восстал, и монголам пришлось взять город снова.
И, наконец, еще через два года Мерв выставил для борьбы с монголами отряд в 10
тысяч человек.
Плоды
пылкой фантазии, воспринимаемые буквально, породили злую, «черную» легенду о
монгольских зверствах» (Л.Н.Гумилев. От Руси к России. – Экопрос-Прогресс,
1994, с.108-109).
Зверства, несомненно, были, хотя вряд ли они
выходили за рамки «обычной» жестокости тех лет, которой хватало и без
Чингисхана. Но здесь Гумилев уловил самую суть – однозначную гиперболизацию
происшедшего, которую он связывает с недобросовестностью хроникеров прошлого.
Рассмотрим более подробно феномен уничтожения
Чингисханом не сдававшихся городов. Считается, что он взял за правило
разрушать до основания все административные центры, которые пытались оказать
ему сопротивление (среди них история называет Отрар, Бухару, Ходжент, Мерв,
Нишапур, Герат и др.). Давайте, независимо от Гумилева, задумаемся: а как,
каким образом Чингисхан мог разрушить целый город? В крупных городских
агломерациях того времени, например, в Средней Азии могло проживать до
нескольких десятков тысяч человек – как в том же Мерве. Это тысячи и тысячи
глинобитных и каменных построек, окруженных кольцом мощных стен, которые при
тамошней жаре становятся плотными и непробиваемыми (если при их строительстве
использовалась глина, замешанная на особых составах). Сокрушить без
специальной техники эти километры дувалов и крепостных галерей невозможно.
Войско Чингисхана состояло обычно из всадников; заметьте – всадников!
Монгольские и примкнувшие к ним племена, подчинявшиеся железным правилам
Великой Ясы,
отлично воевали на лошадях, но были совершенно беспомощны вне седла.
Собственно, в седле они и проводили практически все время, даже ели и спали
верхом. И еще одно: они очень быстро, прямо-таки молниеносно передвигались от
города к городу, стараясь не задерживаться нигде.
Почему в таком случае конные, согласно
уверениям летописцев, должны были спешиться и фактически руками долго и нудно
уничтожать ставший уже пустым город, тратя на это силы и энергию, – кстати, после
боя (то есть вместо
отдыха)? Что делали всё это время оставшиеся без присмотра лошади? Не мешали
ли монголам вспухшие от газов трупы, живописно разбросанные по улицам при
40-градусной жаре, смрад, мор и эпидемии?
Для ускорения работ можно было, конечно,
применить недавно изобретенный порох – но только теоретически. Потому что
порох изготавливался в далеком Китае, возить его с собой в количествах,
необходимых для разрушения даже одного города, было накладно и – что
чрезвычайно важно! – история не упоминает о наличии в войсках Чингисхана
инженерных частей. Кстати, не
упоминает она и о фактах применения взрывчатых веществ для разрушительных
целей (несомненно, впервые увиденные взрывы не прошли бы мимо внимания
современников).
Были еще, правда, стенобитные машины. Из
дерева – весьма дорогого материала в Средней Азии, где леса не растут. Износ
этих машин, вероятно, был очень велик, то есть их можно было использовать
ограниченное число раз – и уж явно не для разрушения опустевшей цитадели, а
для штурма еще не сдавшихся укреплений.
Как же тут быть? Верить хроникерам
прошлого или не верить? Может быть, Л.Н.Гумилев действительно прав?.. Между
прочим, он считает, что вся история средних веков в трактовке тогдашних
авторов – это не более чем миф; монаха Нестора, по крайней мере, – если мы
переместимся в Киевскую Русь – Гумилев прямо уличил во лжи в его знаменитой и,
казалось бы, непререкаемой «Повести временных лет». В своей книге «Этногенез и
биосфера Земли» Гумилев также приводит и другие многочисленные примеры
исторических, мягко говоря, неточностей – см. главы «Можно ли верить
историческим источникам?» и «Можно ли верить памятникам?». В конце концов
Гумилев делает вывод: «Древние авторы всегда писали свои сочинения ради
определенных целей и, как правило, преувеличивали значение интересовавших их
событий. Степень же преувеличения или преуменьшения определить очень трудно и
не всегда возможно».
Видимо, где-то в чем-то Гумилев не очень
справедлив. Ведь нужно учесть еще и такой факт: в прошлые века не были
выработаны критерии исторической науки, как, впрочем, и научного познания
вообще. То есть авторы минувших эпох просто не отдавали себе отчет в том, что
излагают события, о которых они вознамерились написать, ненаучно,
– если выражаться современным языком. Они писали эмоционально и вслепую,
нередко используя только доступную им часть имеющихся сведений. Сравнение
источников информации и анализ текстов, естественно, в то время тоже не
проводились.
Ну и, конечно, авторы в любые времена – и
средневековье не было исключением – активно использовали принцип перенесения и
принцип замещения. Последний мог существенно исказить смысл того, что
летописцы хотели донести до потомков, – но именно для потомков.
Не для современников.
Мы, сегодняшние жители, должны постоянно
иметь в виду язык условностей древних,
прямо вытекающий из их общинного способа мышления. Символы, символизм, подмена
одного понятия другим встречались в то время на каждом шагу. Общинная
организация жизни в ее классическом варианте была характерна для кочевых
монголов; но и оседлым обитателям среднеазиатских земель она была присуща почти
в такой же степени. Исключение не составляла и система полуфеодальной власти
на местах, включавшая в себя владык захваченных городов, царедворцов и
бюрократический аппарат (с тех пор мало что изменилось). И та, и другая
стороны могли по-своему понимать «правила игры» и вкладывать несколько разный
смысл в основные термины и понятия – «защищать», «победить», «проиграть», «разрушить»,
«истребить», «уничтожить» и т.д.
Но, пожалуй, с учетом особенностей их эпохи, друг друга они понимали лучше,
чем сегодня их обеих понимаем мы.
Что,
например, могло значить «истребить жителей»? А кого надо было считать жителями?
Относились ли женщины к жителям городов? Вопрос, на первый взгляд, странный,
но еще в XIX
веке статистика, – по крайней мере, в царской России, – часто игнорировала их
при подсчете общего числа населения (т.н. «числа душ»). По традиции
средневековья женщин не убивали, а захватывали как добычу или «использовали»;
причем, если им сохраняли жизнь, то не из жалости, а просто потому, что не
рассматривали в качестве собственно человека.
Точно так же российская статистика столетней
и двухсотлетней давности могла определять население «по дворам» (при учете
крестьян), то есть, иными словами, в расчет принимались фактически только главы семей.
А в
средневековой Англии под «жителями» подразумевались, главным образом, те, кто
владел хоть какой-либо недвижимой собственностью и в силу этого платил налоги…
В мире, основанном на общинном мышлении, где
целое постоянно заменялось частью, не было никакой необходимости буквально
трактовать сказанное и содеянное. Допустим, Чингисхан для демонстрации своей
силы и власти отдавал приказ уничтожить – нет, не весь город, а лишь его часть,
воспринимавшуюся жителями как символ
города, – главное здание (дворец, крепость, мечеть), квартал либо ненавистный
свободолюбивым кочевникам рынок. Знакома ли нам такая ситуация? Представьте
себе сценку: тётка Параска, обезумевшая от горя и страха, прибегает где-нибудь
в 1942 году к партизанам с криком: «Фрицы село спалили!!!» – «Что, всё?!» – «Да
не… Сельсовет там, правление колхоза, магазин…».
Заметим: у страха глаза велики, и человеку свойственно преувеличивать размер
причиненных разрушений в экстремальных ситуациях, – скажем так,
обобщать.
Иными словами, замещать целое частью.
Конечно же, мы не можем совсем исключать
случаи натурального разгрома городских поселений, как и случаи вполне реальной
массовой резни со стороны воинства Чингисхана. Задача автора – не обелить
завоевателя, а задуматься над тем, как оно было – или могло быть – на самом
деле. Скажем, город Отрар одним из первых подвергся нападению в пределах
государства Хорезм. Этому городу Чингисхан предъявил отдельный счет – убийство
своих послов и предательство доверившихся (особо тяжкое преступление, согласно
законам Великой Ясы); собственно говоря, происшедшее в Отраре и явилось в
значительной степени причиной нападения монголов на Хорезм. Согласно хроникам,
Отрар был стерт с лица земли и все его жители вырезаны подчистую, поскольку
Чингисхан взвалил на город
коллективную ответственность за злодеяние правителей (коллективная
ответственность, как мы понимаем, могла распространяться и на людей, и на вещи,
предметы – части единого целого). Но именно это предположение заставляет
считать, что по образу и подобию Отрара летописцы прошлого начали со временем
видеть судьбу всех прочих подвергшихся нападению городов – в равной степени.
Отрар мог вполне стать символом
общинного восприятия действительности, со всей его привычкой к тождественности
мышления.
С другой стороны, мы не можем также исключать
и того, что разрушение части
целого оказывалось на самом деле
символическим. Скажем, для того, чтобы
перестать считаться военным, достаточно отцепить от пояса меч (знак отличия и
боевой доблести) и демонстративно отдать его победителю. А для того, чтобы
крепость перестала считаться крепостью, достаточно, например, спустить флаг,
снять ворота и произвести некоторые внешние действия, которые приведут к
невозможности выполнения крепостью своих функций в глазах современников. Ведь
даже в наше время полк номинально перестает считаться полком в случае, если он
утратил в бою знамя!..
Теперь о битвах и сражениях. Выше, в тексте,
мы рассматривали отрывок из труда Ю.Липса, где речь шла о поединках богатырей, заменяющих собой военные столкновения.
Нам сейчас трудно себе представить, какую важную роль играли эти мини-поединки
для людей, живущих по общинным «понятиям». Ведь общинная психология
предполагала слепую веру в предопределенность, нечто высшее, которое якобы
управляло развитием событий и намечало место человека и общины в мире. Есть
добрый знак – и «Бог с нами» («боги с нами», «духи с нами»). Есть плохая
примета – и сопротивление бесполезно, так как «от судьбы не уйдешь»; этот
фатализм древних вытекал из их неспособности спорить с окружающей средой и
внешними обстоятельствами, а может быть, и с самими собой. Древний человек –
покорный человек, по крайней мере, перед тем целым,
которое он себе вообразил и от которого эмоционально зависел.
Можно ли считать, что все
битвы, официально зафиксированные в истории, имели место в действительности?
Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно, по крайней мере, определиться,
что считать битвой. Сражение Добра и Зла (а с точки зрения общины, – наших,
настоящих и не-наших,
чуждых, неведомых) – удивительно расплывчатое понятие. Скажем, масштаб битвы
есть некая условность. В иных битвах было задействовано формально огромное
число людей, но лишь немногие из них действительно имели возможность вступить
в прямой контакт с неприятелем и физически «отделать» его, особенно в эпоху
холодного оружия. Если два представителя враждующих сторон вступали в
единоборство перед строем, то правила и традиции не допускали вмешательства
извне; в случае смерти одного из воинов рандеву двух армий могло перерасти во
всеобщую потасовку – как оно нередко и бывает в первобытнообщинном мире, при
столкновении племен (по отзывам этнографов). Но если поединок заканчивался
символическим проигрышем – позором,
– кого-то одного, то стороны могли и разойтись, причем проигравшие молчаливо
принимали условия «игры».
Вместе с тем, битвой могла считаться и
обычная дворовая свалка, в которой вынужденно принимали участие все подряд «воины»
определенной социальной, возрастной
и т.п. группы (а те, кто не входил в эту группу, не обращали на свалку
внимания).
Мы не
можем брать за основу для определения понятия «битва» ее продолжительность.
Сколько бы ни длилась любая схватка, проигравшая сторона всегда ее
впоследствии драматизирует и «увеличит» по времени – хотя бы ради
самоутверждения; впрочем, и победителям удобно задним числом «растягивать»
происшедшее до бесконечности, чтобы полнее ощутить свое величие.
Число
погибших в битве однозначно нельзя относить к критериям ее оценки. В битве
могло погибнуть множество людей, но по своей сути она могла быть ничтожной и
внешне не похожей на войну; но и, наоборот, в каком-нибудь очень характерном
историческом сражении убитых могло почти не оказаться. Так, известно, что
столкновения тяжеловооруженных рыцарей-крестоносцев отличались крайне малым
числом погибших – из-за защитных свойств брони. А японские средневековые
источники свидетельствуют о том, что дешевенький меч рядового воина тупился
после третьего удара, по какой причине многочасовый бой с противником чаще
приводил к увечьям, нежели к смертям.
Итак, мы
не можем однозначно сказать, что считать битвой, а что нет, и где проходит та
грань, которая отделяет историческое сражение от неисторического. Отсюда
следует вывод, что во всей обширнейшей военной истории человечества наверняка
найдутся битвы-призраки, которые никогда не происходили в том смысле, в каком
их сегодня склонны рассматривать мы. Как знать, может быть, «показательное
выступление» каких-нибудь челубеев и пересветов
было для современников таким важным, что и века спустя сказители воспевали их
подвиг, добавляя от себя всё больше и больше подробностей о «великой битве
народов». И сегодня археологи, чертыхаясь, проводят кропотливую работу по
отысканию следов того, что в действительности следов не имеет…
Размышляя о сущности принципа замещения, мы можем заметить, что он – многолик.
Точнее, он имеет некоторое подобие структуры. Во-первых, одушевленное целое
может заменяться одушевленной частью (например, когда один человек
представляет весь свой род или этническую группу и соответственно несет за них
ответственность). Во-вторых, неодушевленное целое может заменяться
неодушевленной частью (одна книга может олицетворять библиотеку, знания вообще,
золотая монета – богатство, снежинка – холода, и т.д.). В-третьих,
одушевленное целое может заменяться неодушевленной частью, то есть каким-либо
символическим предметом, знаком (черная метка у пиратов – символ всего
пиратского рода, волос или обрезок ногтя человека в магии и т.п.). И, наконец,
в-четвертых, неодушевленное целое может заменяться одушевленной частью (при
одушевлении мертвой материи, скажем, «оживший» ветер, дух горы, душа
драгоценного камня, восставший из могилы покойник и пр.).
Первые два случая представляют собой параллельную схему реализации принципа
замещения, а вторые два – перекрестную:
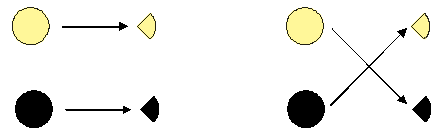 Примечание.
Желтый цвет на рисунке означает нечто одушевленное, черный – неодушевленное.
На начальном этапе развития человечества – в
условиях абсолютного господства первобытнообщинного строя, – по-видимому, все
четыре лика (случая) сливались в одно, то есть человек не делал никакого
различия между ними. Всё было равно всему.
На более позднем этапе пошло разграничение, по крайней мере, на
подсознательном уровне; кто-то был более лоялен к одному из ликов и в меньшей
степени воспринимал другой. Еще позднее стала отмирать перекрестная схема
реализации принципа замещения – в смысле, что она перестала быть
массовой,
– и человечество (или наиболее развитая, образованная его часть), скажем так,
удовлетворилось в основном параллельной схемой. Это побуждает думать, что в
истории принципа замещения – того, какое он место занимал в сознании или
подсознании человека в то или иное время, – можно выявить некие уровни, или
степени развития процесса. Поэтому общинное сознание у первобытных людей и,
скажем, у современных военных, – в общем-то, далеко не одно то же, хотя
некоторые формальные признаки сходства имеются (о чем и шла речь выше, в
тексте). И именно поэтому поединки богатырей могли вполне заменять
сражение у конфликтующих сторон, если стороны находились под властью
натуральной общинной (первобытнообщинной) психологии в ее «чистом» виде, но
этих же поединков уже было недостаточно для армейских людей продвинутых
веков, – несмотря на то, что элементы общинной психологии в известной мере
сохранялись в их среде и позже.
Конечно же, сегодня принцип замещения живет и
процветает. Правда, его используют по-разному в разных обществах; нет сомнения,
что в жизни пигмеев конголезских джунглей он имеет гораздо больше значения,
чем в современной действительности россиян – россиян в целом, как таковых. Но
нет-нет, и в нашем повседневном быту он промелькнет, как ни в чем не бывало.
Иначе как относиться к заявлению обиженного пенсионера: «Все капиталисты одним
миром мазаны!»? Или обманутого вкладчика: «Банкир – значит, вор!»?
Недовольного нынешней прессой: «Газеты пишут одно и то же!»? Женщины, чья
жизнь не удалась: «Все мужчины одинаковы…»? Получается, что каждый из
перечисленных здесь типов судит на основании личного
опыта, перенося частное на целое, нимало не задумываясь о том, что любая часть
системы на самом деле может иметь свое ярко выраженное лицо.
Если для
нас нет разницы между частью и целым, значит, мы попросту отказываемся от
анализа, упрощая ситуацию донельзя. Анализ предполагает выявление различия и
сходства. Если же мы мыслим по схеме «одно равно другому» или «всё равно всему»,
то тем самым обезличиваем всех реальных или предполагаемых участников событий,
низводя их на уровень сплошной серой, безликой массы.
Принцип
обезличивания.
Принцип обезличивания прямо вытекает из принципа замещения:
ПЗ
®
ПО
Еще
вернее будет сказать, что все три принципа взаимозависимы и исходят друг из
друга:
Примечание.
Желтый цвет на рисунке означает нечто одушевленное, черный – неодушевленное.
На начальном этапе развития человечества – в
условиях абсолютного господства первобытнообщинного строя, – по-видимому, все
четыре лика (случая) сливались в одно, то есть человек не делал никакого
различия между ними. Всё было равно всему.
На более позднем этапе пошло разграничение, по крайней мере, на
подсознательном уровне; кто-то был более лоялен к одному из ликов и в меньшей
степени воспринимал другой. Еще позднее стала отмирать перекрестная схема
реализации принципа замещения – в смысле, что она перестала быть
массовой,
– и человечество (или наиболее развитая, образованная его часть), скажем так,
удовлетворилось в основном параллельной схемой. Это побуждает думать, что в
истории принципа замещения – того, какое он место занимал в сознании или
подсознании человека в то или иное время, – можно выявить некие уровни, или
степени развития процесса. Поэтому общинное сознание у первобытных людей и,
скажем, у современных военных, – в общем-то, далеко не одно то же, хотя
некоторые формальные признаки сходства имеются (о чем и шла речь выше, в
тексте). И именно поэтому поединки богатырей могли вполне заменять
сражение у конфликтующих сторон, если стороны находились под властью
натуральной общинной (первобытнообщинной) психологии в ее «чистом» виде, но
этих же поединков уже было недостаточно для армейских людей продвинутых
веков, – несмотря на то, что элементы общинной психологии в известной мере
сохранялись в их среде и позже.
Конечно же, сегодня принцип замещения живет и
процветает. Правда, его используют по-разному в разных обществах; нет сомнения,
что в жизни пигмеев конголезских джунглей он имеет гораздо больше значения,
чем в современной действительности россиян – россиян в целом, как таковых. Но
нет-нет, и в нашем повседневном быту он промелькнет, как ни в чем не бывало.
Иначе как относиться к заявлению обиженного пенсионера: «Все капиталисты одним
миром мазаны!»? Или обманутого вкладчика: «Банкир – значит, вор!»?
Недовольного нынешней прессой: «Газеты пишут одно и то же!»? Женщины, чья
жизнь не удалась: «Все мужчины одинаковы…»? Получается, что каждый из
перечисленных здесь типов судит на основании личного
опыта, перенося частное на целое, нимало не задумываясь о том, что любая часть
системы на самом деле может иметь свое ярко выраженное лицо.
Если для
нас нет разницы между частью и целым, значит, мы попросту отказываемся от
анализа, упрощая ситуацию донельзя. Анализ предполагает выявление различия и
сходства. Если же мы мыслим по схеме «одно равно другому» или «всё равно всему»,
то тем самым обезличиваем всех реальных или предполагаемых участников событий,
низводя их на уровень сплошной серой, безликой массы.
Принцип
обезличивания.
Принцип обезличивания прямо вытекает из принципа замещения:
ПЗ
®
ПО
Еще
вернее будет сказать, что все три принципа взаимозависимы и исходят друг из
друга:
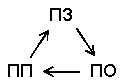 Это
значит, что, размышляя об истории, мы переносим одно историческое на другое
историческое, неизвестное нам целое заменяем известной нам частью, поскольку
все части для нас, по определению, взаимозаменяемы и в силу этого без труда
могут быть перенесены на что угодно. При этом своё собственное, личное мы
выдаем за всеобщее, придавая, таким образом, всеобщему нужные нам, узнаваемые
нами черты. Чего мы этим добиваемся? Только одного: весь мир становится
похожим на нас. То есть у этого мира – лишь одно лицо. Или, может, в
действительности у него нет лиц?..
Принцип
обезличивания чрезвычайно характерен для общинного мышления и общинного
сознания, которые, как мы помним, преобладали в прожитой жизни человечества и
пользуются популярностью до сих пор. Человеку, поднявшемуся над уровнем общины,
порвавшему с ним по крайней мере в основном, трудно, а подчас и невозможно
представить себе тот своеобразный угол зрения, который открывается изнутри
общинного коллектива. Община требует от своих членов приглушения в себе
индивидуального «Я» в угоду более заметному коллективному «МЫ». В результате
вся община в целом может обладать признаками индивидуальности. Но их будут в
значительной степени лишены составляющие общину отдельные индивиды.
Если мы,
будучи носителями однозначно очерченного «Я» по воспитанию, образованию,
привитому мировоззрению, образу жизни и т.п., вдруг начинаем видеть мир
упрощенно, относительно узко и, скажем так, повторяемо, сквозь призму принципа
перенесения и принципа замещения, то как знать – может быть, дело не в мире «за
окном», а просто мы устали от своей психологической обособленности и
подсознательно ищем «родную» общину?..
Вопрос о
соотношении личного и безличного (в данном случае – общинного,
обобществленного), индивидуального и лишенного внутренней
индивидуальности (в данном случае – на уровне первичного носителя)
рассматривался очень многими психологами, социологами, историками, философами.
Сегодня существует точка зрения, что понятие «личность» отнюдь не было присуще
виду
homo sapiens
с момента его зарождения на Земле и появилось сравнительно недавно по
историческим меркам; иными словами, значительную часть своей жизни
человечество – подавляющее большинство его представителей – было лишено
каких-либо особых признаков, которые позволяли бы выделять индивидов в их
группе, если не иметь в виду чисто поверхностные различия. Вот, например, что
пишет И.Кон о людях античности, анализируя опыт отечественных и зарубежных
специалистов (цитирую по: И.С.Кон. Открытие «Я». – М., Политиздат, 1978):
«Древнегреческий
язык вообще не имел понятия, эквивалентного современному понятию «личность»…»
(с.118).
«…Древнегреческие боги не были лицами
в психологическом смысле этого слова. Они не обладают ни собственной
внутренней жизнью, ни психическим единством. Это только персонифицированные силы…»
(с.146).
«Общеизвестна «непсихологичность»
классической греческой скульптуры… Человеческое в античности есть телесно
человеческое, но отнюдь не личностно
человеческое» (с.147).
Может ли так быть? Конечно, если мы будем
иметь в виду общинную психологию и общинное сознание, повсеместно
распространенные в то, идеализированное нами, время. Они до определенной
степени нивелировали личностные характеристики членов коллектива, перенося
акцент с их внутреннего мира на
внешний, окружающий мир и место
человека в нем (то, как выглядеть в глазах соплеменников, как себя вести и как
держаться, чтобы «сохранить лицо», что, когда, с кем и о чем говорить, что
думать, какие правила соблюдать, как «не выбиться из графика» бесчисленных
церемоний и ритуалов, как не нарушить, пусть и бессмысленные по здравому
размышлению, табу
и т.п.). Глубинное здесь не требовалось. Требовалось лишь, не особо размышляя,
следовать тому, что нужно, и воздерживаться от того, чего нельзя (предписывающий
и запретительный кодексы). Отсюда – и известная узость, трафаретность античных
персонажей, как литературных,
так и – скорее всего – реальных, исторических.
Подобное
положение вещей отнюдь не ограничивалось древним миром. Как уже говорилось
выше, мы находим его везде и всюду, где «общинный стиль» оказывался
преобладающим, – вплоть до Европы
XVIII-XIX
веков и России ХХ века. Вот что пишет И.Кон о западноевропейцах:
«Средневековый
индивид, выполняя множество традиционных ритуалов, видел в них свою подлинную
жизнь… Вся жизнь человека, от рождения до смерти, была регламентирована…
Средневековый человек всю свою жизнь проводил среди одних и тех же людей, на
виду у членов своей общины. Теснота и прочность взаимосвязей никому не
позволяли пренебрегать ими, оставляя человеку очень мало пространства для
чего-то только своего, интимного…» (с.174, 185-186).
Неразвитый внутренний мир, подавленная (еще не раскрывшаяся) индивидуальность
по-своему отражались на семейных отношениях. Нет интимности – и семья, точнее,
семейный мирок из десятка-другого человек, маленькая модель большой общины, –
представляла собой группу родственников, связанных скорее взаимными
обязательствами, формальной необходимостью держаться вместе, привычкой, чем
подлинным взаимопониманием, нежностью, заботой и любовью:
«Психологическая
близость между супругами и между родителями и детьми, хотя и не исключалась,
не считалась необходимой и была, по-видимому, сравнительно редкой. Это
характерно не только для средневековья, но даже для
XVI-XVIII
веков… Князь Талейран, родившийся в 1754 г., писал, что «родительские заботы
еще не вошли тогда в нравы…» В знатных семьях любили гораздо больше род, чем
отдельных лиц, особенно молодых, которые еще были неизвестны, а Ж.-Ж.Руссо с
грустью констатировал, что «нет… интимности между родными…» (там же,
с.187-188).
Общинная
психология по-иному заставляла относиться к понятию время. Отсюда можно
сделать вывод, что вплоть до недавних веков продолжительность процессов никого
в принципе не интересовала:
«…Средневековый человек не воспринимал время
как нечто вещественное, тем более имеющее цену. Из всех измерений,
свойственных современному понятию времени (длительность, направленность,
ритмичность и т.д.), для него важнее всего была ритмичность,
повторяемость.
Природные ритмы, чередование времен года и т.д. распространялись и на
человеческую жизнь. Люди никуда особенно не спешили и не гнались за точностью.
До XIII-XIV вв. часы в Европе были редкостью, а понятие о минуте и минутная
стрелка появляются лишь в XVI в.
Отсутствие идеи направленности и необратимости времени сочеталось с
отсутствием другой, столь же непреложной для современного человека, идеи –
развития личности. Земное время, связанное с ограниченными сроками
человеческой жизни, постоянно соотносилось с вечностью божественного,
сакрального времени. Это делало, например, психологически возможным сооружение
таких величественных построек, как готические соборы или армянский Гегард, –
работа, требовавшая нескольких столетий» (там же, с.188-189).
Интересно, что то Высшее, которое направляло человека и стояло над ним, как
это ни странно, тоже долгое время оставалось безликим. Мы уже говорили, что на
начальном этапе эволюции общинной психологии мир, окружающий индивида, был
наполнен множеством вполне реальных для него духов. Затем среди духов
возникала определенная иерархия. В сознании индивида постепенно
выкристаллизовывалось некое единое начало, Верховное Существо, которое часто
воспринималось как фон, оттеняющий действия всех прочих, более мелких божеств.
Собственно, так возникал прамонотеизм.
Естественно, что этот абсолютный фон (дух) был всемогущ, но не имел никаких
признаков индивидуальности. Всем известно, что в восточных религиях Бог и по
сей день не является личностью в современном смысле слова, он есть везде, во
всем и при этом остается некой бесплотной субстанцией. Менее известно, что и в
раннем христианстве Бог не имел самостоятельного лица и, скажем так, характера:
«В
богословских текстах II
в. бог-отец, бог-сын и бог – дух святой еще не обладают чертами личной
самостоятельности и являются разными наименованиями одного и того же божества,
понимаемого как чистая безличная бесконечность. Как и в старых гностических
текстах, сын – только имя отца, который сам не имеет имени» (там же, с.172).
Характерно,
что наличие фамилий – родового имени, – равно как и отчеств,
говорит об определенном обезличивании каждого конкретного их носителя. Это
дает нам представление еще об одной стороне жизни общины. Имя человека
отражало лишь то, чьей собственностью он является (например отца). Еще хорошо,
если у человека было имя. Нам сегодня трудно себе вообразить, что у
значительной части людей прошлого имен не было вообще, по крайней мере
младенцы именами не нарекались. Имя можно было заслужить в течение жизни (и не
одно), но не каждому выпадала такая честь. В Японии вплоть до середины
XIX
века большинство крестьян так и жило безымянным. А порой людям давалось сразу несколько
имен,
причем главное из них – «настоящее» – зачастую от всех скрывалось (чтобы
обмануть недоброжелателей и «нечистую силу»).
Кроме того, у многих народов существовал обычай периодической
смены имен на протяжении жизни и, в
особенности, после смерти, когда давалось так называемое посмертное имя, под
которым тот или иной исторический деятель известен потомкам. Иными словами,
немало полководцев и царствующих особ прошлого в действительности могли
никогда не слышать имен, являющихся сегодня по умолчанию их «опознавательным
знаком».
Условность имени в общине – нынче оно такое, завтра другое – встречается
повсеместно в современных организациях, построенных по общинному признаку.
Имеются в виду та же армия, тюремная зона, криминальный мир и т.д. Здесь речь
идет о кличках,
которые по сути продолжают традицию смены имен по мере прохождения жизненного
цикла. Смысл этого явления ясен: раз нет ярко выраженного, устойчивого,
уникального имени, то нет и четких границ самобытности того, кто скрывается за
ним, индивидуальность такого индивида размыта.
В старину, когда человек представлял собой
сплошную форму и был безликим существом, свою обезличенность он соответственно
переносил на всё, что его окружало.
Среда, в которой обитал тогда человек, была безликой. Человек не видел
индивидуальности в тех вещах, которые ему попадались на каждом шагу. Иными
словами, живя в горах, он не любовался горами и воспринимал их как нечто само
собой разумеющееся; добывая рыбу в море, он не задумывался о том, как море
чертовски хорошо в час заката! Если несколько упростить, мы можем назвать это
синдромом голодного, заметившего яблоко: видя яблоко на дереве, голодный
человек не видел самого дерева, – в лучшем случае он обращал внимание на
структуру веток, по которым можно залезть, или на палку, которой это яблоко
можно сбить.
Конечно, и в данных рассуждениях мы должны
допускать некоторую условность, имея в виду, что и первобытные времена бывали
исключения, по крайней мере теоретически. Даже у животных встречаются моменты
«обалдения» от необычности внешнего мира, – например, когда волчонок впервые
увидит снег и радостно прыгает по нему или когда котенок открывает для себя
существование клубка ниток. Выше речь идет об усредненном
отношении человека к миру и вещам, которое было тем бездушнее и функциональнее,
чем меньше собственного «Я» оставалось в индивиде.
Также нельзя забывать об уровнях общинного – о них разговор впереди.
Уровни предполагали разное соотношение между общинным и индивидуальным в
сознании каждого конкретного представителя группы, а также в коллективном
сознании разных групп, и соответственно свидетельствовали о разных масштабах
привязки к общинному образу жизни. Община ведь не распадалась сразу и в один
день, как по мановению волшебной палочки. И первобытный человек, и более
поздний – средневековый зависели от своей общины в огромной степени, – если
говорить о внешней стороне дела; но
внутренняя зависимость всё-таки с веками постепенно ослаблялась,
что в конечном счете и привело к отмиранию данного социального института, во
всяком случае, на значительной части Земли.
Поэтому
человек эпохи Возрождения, возможно, чуть чаще древнего обращал внимание на
красоту окружающего мира, хотя и вкладывал в это понятие несколько иной смысл,
чем вкладываем сегодня мы.
Впрочем, наше открытие красоты, как правило, пропорционально проснувшейся в
нас индивидуальности.
Вероятно, отдельно нужно рассмотреть вопрос о
теории и практике принципа обезличивания в России. Любые оценки российской
действительности прошлых лет должны производиться сквозь призму того факта,
что 80% ее жителей имели непосредственное отношение к крестьянской общине
вплоть до начала ХХ века. Россия испокон веков была крестьянской
страной, то есть удельный вес сельского населения по сравнению с городским был
непропорционально велик. Сельский образ жизни в силу особенностей организации
сохранял «общинность» куда дольше; это накладывало и на село вообще и на
Россию в частности неизгладимый отпечаток, который, к примеру, Карл Маркс без
обиняков называл «идиотизмом деревенской жизни».
Сказать, что крестьянская община была
тормозом для продвижения России вперед по пути прогресса, – значит, не сказать
ничего. Ведь одной из главных характерных особенностей всякой общины, включая
русскую, является подавление
инициативы, исходящей от того или иного индивидуума;
в общине обычно принято делать что-либо или всем вместе, или никак. Инициатива
же предполагает проявление некоторой, пусть и скромной, личной
самостоятельности, прорисовку своего лица, а это угрожает принципам
существования общины. Поэтому реформы П.А.Столыпина, покусившегося на самую ее
суть, никогда не пользовались популярностью в крестьянской среде и вызывали
ожесточенное коллективное
сопротивление.
События 1914-1921 гг. – мировая война,
революция и гражданская война – породили хаос в стране, предоставив общине
возможность самоорганизоваться и «зализать раны», нанесенные реформаторами.
Большевики (равно как и эсеры, у которых большевики переняли позицию по
крестьянскому вопросу) очень тонко почувствовали ту грань, которую недопустимо
переступать, чтобы у общины не появилась потребность защищаться. Членов общины
можно было грабить, убивать, сажать в тюрьмы, ссылать в лагеря, морить голодом
и т.д., – но сама идея
общины должна была при этом оставаться в неприкосновенности. Поэтому решение
ВКП(б) о создании коллективных хозяйств (колхозов), унифицирующих
распределение материальных благ и, скажем так, «законодательно закрепляющих»
естественные процессы в деревенской среде, было принято крестьянами на ура.
А.Жид, уже упоминавшийся выше в тексте, сообщал в 1936 году, что каждый
крестьянин старается вступить в колхоз; но напрасно – число колхозников
ограничено (из сборника «Возвращение из СССР», – М., Московский рабочий, 1990,
с.559).
Вообще
книга А.Жида, наделавшая столько шума в конце 1930-х,
является прекрасным иллюстративным материалом по истории принципа
обезличивания в СССР. Вот некоторые выдержки:
«Я был в
домах многих колхозников этого процветающего колхоза… Мне хотелось бы выразить
странное и грустное впечатление, которое производит «интерьер» в их домах:
впечатление абсолютной безликости. В каждом доме та же грубая мебель, тот же
портрет Сталина – и больше ничего. Ни одного предмета, ни одной вещи, которые
указывали бы на личность хозяина. Взаимозаменяемые жилища. До такой степени,
что колхозники (которые тоже кажутся взаимозаменяемыми) могли бы перебраться
из одного дома в другой и не заметить этого(сноска Жида). Конечно,
таким способом легче достигнуть счастья. Как мне говорили, радости у них тоже
общие… Всеобщее счастье достигается обезличиванием каждого. Счастье всех
достигается за счет каждого. Будьте как все, чтобы быть счастливым. (Сноска
Жида: Эта деперсонализация позволяет также предположить, что люди, которые
спят в общих спальнях, страдают от промискуитета, невозможности уединиться,
меньше, чем они страдали бы, сохраняя индивидуальность. Но сама эта, всеобщая
в СССР, тенденция к утрате личностного начала – может ли она рассматриваться
как прогресс?..)» (там же, с.535).
Несомненно, именно село стало поставщиком новых горожан взамен «вымытых»
войнами и революциями (погибших, эмигрировавших). Поэтому община в 1920-30-е
годы, особенно в период т.н. «индустриализации», пришла в города, точнее,
закрепилась в них еще сильнее по сравнению с тем, что было в царское время.
Этому немало способствовал и полукриминальный – если угодно, партийный, – тип
управления страной: чиновничий, обезличенный, бездушный, то есть в конечном
счете тоже общинный.
Отсюда – и деперсонализация
общества, в том числе городского, тонко подмеченная дотошным европейцем:
«Летом
почти все ходят в белом. Все друг на друга похожи. Нигде результаты
социального нивелирования не заметны до такой степени, как на московских
улицах, – словно в бесклассовом обществе у всех одинаковые нужды. Я, может
быть, преувеличиваю, но не слишком. В одежде исключительное однообразие.
Несомненно, то же самое обнаружилось бы и в умах, если бы это можно было бы
увидеть… Различия можно заметить, если только внимательно присмотреться. На
первый взгляд кажется, что человек настолько сливается с толпой, так мало в
нем личного, что можно было бы вообще не употреблять слово «люди», а обойтись
одним понятием «масса» (там же, с.530).
И еще:
«В СССР
решено однажды и навсегда, что по любому вопросу должно быть только одно
мнение. Впрочем, сознание людей сформировано таким образом, что этот
конформизм им не в тягость, он для них естествен… Каждое утро «Правда» им
сообщает, что следует знать, о чем думать и чему верить. И нехорошо не
подчиняться общему правилу. Получается, что, когда ты говоришь с каким-нибудь
русским, ты говоришь словно со всеми сразу. Не то чтобы он буквально следовал
каждому указанию, но в силу обстоятельств отличаться от других он просто не
может…» (там же, с.536).
Естественно, что мышление большинства советских людей в таких условиях
основывалось на принципе перенесения и принципе замещения. Первый проявлялся в
постоянном перенесении (намеренном и ненамеренном) марксистских, точнее,
ленинско-сталинских догм на все социальные процессы прошлого и настоящего, в
каком бы месте Земли они ни происходили. Второй психологически позволял
распространять какую-нибудь деталь, часто незначительных масштабов, на весь
СССР и советскую историю; скажем, захват вооруженными матросами
полуопустевшего Зимнего дворца (довольно заурядный, по меркам войны 1914-1918
годов, переворот) без труда превратился в Великую Октябрьскую социалистическую
революцию, а хорошо организованная рабочая смена отдельной, образцовой бригады
шахтеров или трактористов – «стахановцев» воспринималась как трудовой героизм
всего советского народа.
Практикующееся обезличивание позволяло всем
членам общины думать и говорить штампами, то есть теми же символами, знаками,
столь важными для общинной психологии. При этом мир реальный часто соединялся
с миром условным, воображаемым (ирреальным) в неразрывное целое, и грань между
обоими мирами провести было невозможно. Весьма показательна в этом плане
книга-«библия» «Краткий курс истории ВКП(б)», которая изобиловала условностями,
обобщенными, часто утрированными образами, односложными – знаковыми терминами
и понятиями («враги», «изверги», «вредить», «великий», «совершать подвиги» и
т.п.) и вводила читателя в некую «виртуальную реальность», воспринимаемую,
однако, на полном серьёзе. Если разобраться, эта главная книга советского
строя представляла собой литературно-исторический лубок
– вещь, незаменимую и востребованную,
с точки зрения общинного мышления и общинного восприятия действительности.
Давайте задумаемся, что формирует
коллективные вкусы, пристрастия и «духовные потребности» общины? Как правило,
ее представители получают не столько то, что им навязывают, сколько то, что
они расположены получать, к чему они имеют психологическую готовность – в
противном случае следует отторжение на самом начальном этапе. В этом
проявляется
обратная связь как внутри
общинного коллектива, так и вне его (община – окружающий мир); то есть здесь
мы видим ту же схему «всё равно всему», внутреннее состоит из тесно связанных,
воспроизводящих друг друга частей, каждая из которых является причиной и
следствием всех прочих, и при этом тождественно внешнему – имеется в виду, что
внешнее является как бы неразрывным продолжением любой из этих частичек.
Общинный человек с легкостью переносит «своё» на то, что, на первый взгляд,
лежит за пределами «своего», и рассчитывает на взаимность, то есть на то, что
пришедшее «оттуда» будет аналогичным, узнаваемым – в конечном итоге тоже «своим».
Всё, что укладывается в эту схему, будет признано, всё, что не укладывается, –
нет.
Поэтому до известной степени граница между внешним
и внутренним
будет для такого человека размыта (это правило не распространяется на
однозначно неприемлемое, лежащее по ту сторону сознания). Отсюда и тесное
переплетение миров: реального и ирреального, когда действительность включает в
себя элементы того, что необщинному человеку покажется невероятным. Мало того,
необщинный человек, отсекающий данную
ирреальность, просто посчитает, что общинный взирает на мир упрощенно, сужает
рамки собственного восприятия окружающего. Так, во всяком случае, часто
понимается со стороны.
Поэтому
любой лубок, кажущийся вульгарным, примитивным образованному индивидуалисту,
отнюдь не кажется таковым носителю общинного сознания.
Последний вообще слишком увлекается условностями, знаками, видит их во всём, –
например, в кино, если мы будем говорить о более современных общинных людях,
XX-XXI
веков. Возьмем, скажем, откровенно плохой фильм – с точки зрения классического
киноискусства, фильм насквозь фальшивый, с примитивной режиссурой и
допотопными приемами актерской игры. Подобное часто можно наблюдать в
низкопробных боевиках, дешевых комедиях и т.п. Что мы там видим? Вычурные
движения героев, которые мы почти никогда не встретим в жизни, неестественную
интонацию, странно поставленные голоса, искусственно построенные фразы,
диалоги «ни о чем», натянутые и высосанные из пальца, наконец, действия и
события, совершенно далекие от реальности. Как бы играют, как бы говорят, как бы действуют… Но не так это
воспринимается с позиции общинного зрителя. Для него фильм наполнен символами
– такими же реальными, как для нас реальна сама реальность. Какой-нибудь
супермен, борющийся со злом, в общем-то, обезличенный, с точки зрения хорошего
вкуса, является типичным порождением общинной идеологии и принимается как само
собой разумеющееся, – так, как у древних людей принимались рассказы о
чудо-богатырях.
Различные видимые
эффекты и спецэффекты здесь будут играть куда более важную роль, чем то, что
по определению увидеть нельзя (например, глубинный, внутренний мир героев).
С этой точки зрения, почти всё индийское кино,
весьма условное и неестественное, является типичным ожившим лубком и удовлетворяет запросам
усредненного общинного человека, не осознающего его неестественность.
Любопытна и такая деталь: стандартный
представитель общины не нуждается в
идентификации того, что он смотрит (видит
перед собой). То есть его ни в малой степени не интересуют проблемы авторства
и неповторимости, уникальности произведения.
Всё равно всему. Порой можно наблюдать такую забавную сценку: вы заходите в
помещение, наполненное людьми, предпочитающими сообща смотреть телевизор –
смотреть внимательно и часами подряд. На вопрос: «Что идет?» следует ответ: «Не
знаем» или «Фильм какой-то…» Это происходит потому, что общинному сознанию –
или элементам его у наших современников – свойственно в той или иной степени
обезличивать
окружающие вещи, предметы, явления. О чем мы уже говорили.
Отказ от качества – в угоду количеству
есть также суть характерная черта общины. Именно поэтому индийских фильмов
производится более тысячи в год; но их весьма трудно отличить друг от друга.
Если говорить о подлинном качестве авторских
произведений, то общинного человека оно пугает – или попросту остается
непонятным и потому не вызывающим никакого интереса. В действительно хороших
фильмах актерская игра,
как правило, не заметна – настоящий артист живет, а не играет. Уходят все
признаки условности, знаковости, остается лишь прямое, натуральное,
естественное, а потому какое-то «недоделанное», с точки зрения духовного мира
общины. Мало того, и актерская игра, и мастерство режиссера, оператора могут
вообще остаться незамеченными, ибо, как известно, замечаются отклонения от нормы, а не она сама
(по принципу: работу правительства замечают лишь тогда, когда оно работает
плохо).
С другой стороны, символизм встречается не
только в плохих фильмах, но и в фильмах блестящих, высочайшего уровня. Трудно,
скажем, представить более «знаковый» фильм, чем «Покаяние» Т.Абуладзе. Странно,
но подобные фильмы проходят мимо внимания общинного зрителя, как если бы их не
существовало. Это вынуждает думать, что примитивный символизм не тождествен символизму развитому, прочувствованному,
пронесенному через себя, точнее, через свою индивидуальность. Следовательно,
существует по крайней мере два типа условностей: условность, которая
понимается буквально, абсолютно, и условность, которая всегда относительна, то
есть понимается в переносном смысле. Впрочем, это касается отнюдь не только
условностей, но и организации мышления вообще:
Общинный подход предполагает
·
условность,
понимаемую буквально
·
буквальность,
понимаемую буквально
Более индивидуализированный подход
предполагает
·
буквальность,
понимаемую условно
·
условность,
понимаемую условно, в переносном смысле
а также
прямое, буквальное восприятие, когда в этом есть необходимость.
Вот то же на схеме:
Это
значит, что, размышляя об истории, мы переносим одно историческое на другое
историческое, неизвестное нам целое заменяем известной нам частью, поскольку
все части для нас, по определению, взаимозаменяемы и в силу этого без труда
могут быть перенесены на что угодно. При этом своё собственное, личное мы
выдаем за всеобщее, придавая, таким образом, всеобщему нужные нам, узнаваемые
нами черты. Чего мы этим добиваемся? Только одного: весь мир становится
похожим на нас. То есть у этого мира – лишь одно лицо. Или, может, в
действительности у него нет лиц?..
Принцип
обезличивания чрезвычайно характерен для общинного мышления и общинного
сознания, которые, как мы помним, преобладали в прожитой жизни человечества и
пользуются популярностью до сих пор. Человеку, поднявшемуся над уровнем общины,
порвавшему с ним по крайней мере в основном, трудно, а подчас и невозможно
представить себе тот своеобразный угол зрения, который открывается изнутри
общинного коллектива. Община требует от своих членов приглушения в себе
индивидуального «Я» в угоду более заметному коллективному «МЫ». В результате
вся община в целом может обладать признаками индивидуальности. Но их будут в
значительной степени лишены составляющие общину отдельные индивиды.
Если мы,
будучи носителями однозначно очерченного «Я» по воспитанию, образованию,
привитому мировоззрению, образу жизни и т.п., вдруг начинаем видеть мир
упрощенно, относительно узко и, скажем так, повторяемо, сквозь призму принципа
перенесения и принципа замещения, то как знать – может быть, дело не в мире «за
окном», а просто мы устали от своей психологической обособленности и
подсознательно ищем «родную» общину?..
Вопрос о
соотношении личного и безличного (в данном случае – общинного,
обобществленного), индивидуального и лишенного внутренней
индивидуальности (в данном случае – на уровне первичного носителя)
рассматривался очень многими психологами, социологами, историками, философами.
Сегодня существует точка зрения, что понятие «личность» отнюдь не было присуще
виду
homo sapiens
с момента его зарождения на Земле и появилось сравнительно недавно по
историческим меркам; иными словами, значительную часть своей жизни
человечество – подавляющее большинство его представителей – было лишено
каких-либо особых признаков, которые позволяли бы выделять индивидов в их
группе, если не иметь в виду чисто поверхностные различия. Вот, например, что
пишет И.Кон о людях античности, анализируя опыт отечественных и зарубежных
специалистов (цитирую по: И.С.Кон. Открытие «Я». – М., Политиздат, 1978):
«Древнегреческий
язык вообще не имел понятия, эквивалентного современному понятию «личность»…»
(с.118).
«…Древнегреческие боги не были лицами
в психологическом смысле этого слова. Они не обладают ни собственной
внутренней жизнью, ни психическим единством. Это только персонифицированные силы…»
(с.146).
«Общеизвестна «непсихологичность»
классической греческой скульптуры… Человеческое в античности есть телесно
человеческое, но отнюдь не личностно
человеческое» (с.147).
Может ли так быть? Конечно, если мы будем
иметь в виду общинную психологию и общинное сознание, повсеместно
распространенные в то, идеализированное нами, время. Они до определенной
степени нивелировали личностные характеристики членов коллектива, перенося
акцент с их внутреннего мира на
внешний, окружающий мир и место
человека в нем (то, как выглядеть в глазах соплеменников, как себя вести и как
держаться, чтобы «сохранить лицо», что, когда, с кем и о чем говорить, что
думать, какие правила соблюдать, как «не выбиться из графика» бесчисленных
церемоний и ритуалов, как не нарушить, пусть и бессмысленные по здравому
размышлению, табу
и т.п.). Глубинное здесь не требовалось. Требовалось лишь, не особо размышляя,
следовать тому, что нужно, и воздерживаться от того, чего нельзя (предписывающий
и запретительный кодексы). Отсюда – и известная узость, трафаретность античных
персонажей, как литературных,
так и – скорее всего – реальных, исторических.
Подобное
положение вещей отнюдь не ограничивалось древним миром. Как уже говорилось
выше, мы находим его везде и всюду, где «общинный стиль» оказывался
преобладающим, – вплоть до Европы
XVIII-XIX
веков и России ХХ века. Вот что пишет И.Кон о западноевропейцах:
«Средневековый
индивид, выполняя множество традиционных ритуалов, видел в них свою подлинную
жизнь… Вся жизнь человека, от рождения до смерти, была регламентирована…
Средневековый человек всю свою жизнь проводил среди одних и тех же людей, на
виду у членов своей общины. Теснота и прочность взаимосвязей никому не
позволяли пренебрегать ими, оставляя человеку очень мало пространства для
чего-то только своего, интимного…» (с.174, 185-186).
Неразвитый внутренний мир, подавленная (еще не раскрывшаяся) индивидуальность
по-своему отражались на семейных отношениях. Нет интимности – и семья, точнее,
семейный мирок из десятка-другого человек, маленькая модель большой общины, –
представляла собой группу родственников, связанных скорее взаимными
обязательствами, формальной необходимостью держаться вместе, привычкой, чем
подлинным взаимопониманием, нежностью, заботой и любовью:
«Психологическая
близость между супругами и между родителями и детьми, хотя и не исключалась,
не считалась необходимой и была, по-видимому, сравнительно редкой. Это
характерно не только для средневековья, но даже для
XVI-XVIII
веков… Князь Талейран, родившийся в 1754 г., писал, что «родительские заботы
еще не вошли тогда в нравы…» В знатных семьях любили гораздо больше род, чем
отдельных лиц, особенно молодых, которые еще были неизвестны, а Ж.-Ж.Руссо с
грустью констатировал, что «нет… интимности между родными…» (там же,
с.187-188).
Общинная
психология по-иному заставляла относиться к понятию время. Отсюда можно
сделать вывод, что вплоть до недавних веков продолжительность процессов никого
в принципе не интересовала:
«…Средневековый человек не воспринимал время
как нечто вещественное, тем более имеющее цену. Из всех измерений,
свойственных современному понятию времени (длительность, направленность,
ритмичность и т.д.), для него важнее всего была ритмичность,
повторяемость.
Природные ритмы, чередование времен года и т.д. распространялись и на
человеческую жизнь. Люди никуда особенно не спешили и не гнались за точностью.
До XIII-XIV вв. часы в Европе были редкостью, а понятие о минуте и минутная
стрелка появляются лишь в XVI в.
Отсутствие идеи направленности и необратимости времени сочеталось с
отсутствием другой, столь же непреложной для современного человека, идеи –
развития личности. Земное время, связанное с ограниченными сроками
человеческой жизни, постоянно соотносилось с вечностью божественного,
сакрального времени. Это делало, например, психологически возможным сооружение
таких величественных построек, как готические соборы или армянский Гегард, –
работа, требовавшая нескольких столетий» (там же, с.188-189).
Интересно, что то Высшее, которое направляло человека и стояло над ним, как
это ни странно, тоже долгое время оставалось безликим. Мы уже говорили, что на
начальном этапе эволюции общинной психологии мир, окружающий индивида, был
наполнен множеством вполне реальных для него духов. Затем среди духов
возникала определенная иерархия. В сознании индивида постепенно
выкристаллизовывалось некое единое начало, Верховное Существо, которое часто
воспринималось как фон, оттеняющий действия всех прочих, более мелких божеств.
Собственно, так возникал прамонотеизм.
Естественно, что этот абсолютный фон (дух) был всемогущ, но не имел никаких
признаков индивидуальности. Всем известно, что в восточных религиях Бог и по
сей день не является личностью в современном смысле слова, он есть везде, во
всем и при этом остается некой бесплотной субстанцией. Менее известно, что и в
раннем христианстве Бог не имел самостоятельного лица и, скажем так, характера:
«В
богословских текстах II
в. бог-отец, бог-сын и бог – дух святой еще не обладают чертами личной
самостоятельности и являются разными наименованиями одного и того же божества,
понимаемого как чистая безличная бесконечность. Как и в старых гностических
текстах, сын – только имя отца, который сам не имеет имени» (там же, с.172).
Характерно,
что наличие фамилий – родового имени, – равно как и отчеств,
говорит об определенном обезличивании каждого конкретного их носителя. Это
дает нам представление еще об одной стороне жизни общины. Имя человека
отражало лишь то, чьей собственностью он является (например отца). Еще хорошо,
если у человека было имя. Нам сегодня трудно себе вообразить, что у
значительной части людей прошлого имен не было вообще, по крайней мере
младенцы именами не нарекались. Имя можно было заслужить в течение жизни (и не
одно), но не каждому выпадала такая честь. В Японии вплоть до середины
XIX
века большинство крестьян так и жило безымянным. А порой людям давалось сразу несколько
имен,
причем главное из них – «настоящее» – зачастую от всех скрывалось (чтобы
обмануть недоброжелателей и «нечистую силу»).
Кроме того, у многих народов существовал обычай периодической
смены имен на протяжении жизни и, в
особенности, после смерти, когда давалось так называемое посмертное имя, под
которым тот или иной исторический деятель известен потомкам. Иными словами,
немало полководцев и царствующих особ прошлого в действительности могли
никогда не слышать имен, являющихся сегодня по умолчанию их «опознавательным
знаком».
Условность имени в общине – нынче оно такое, завтра другое – встречается
повсеместно в современных организациях, построенных по общинному признаку.
Имеются в виду та же армия, тюремная зона, криминальный мир и т.д. Здесь речь
идет о кличках,
которые по сути продолжают традицию смены имен по мере прохождения жизненного
цикла. Смысл этого явления ясен: раз нет ярко выраженного, устойчивого,
уникального имени, то нет и четких границ самобытности того, кто скрывается за
ним, индивидуальность такого индивида размыта.
В старину, когда человек представлял собой
сплошную форму и был безликим существом, свою обезличенность он соответственно
переносил на всё, что его окружало.
Среда, в которой обитал тогда человек, была безликой. Человек не видел
индивидуальности в тех вещах, которые ему попадались на каждом шагу. Иными
словами, живя в горах, он не любовался горами и воспринимал их как нечто само
собой разумеющееся; добывая рыбу в море, он не задумывался о том, как море
чертовски хорошо в час заката! Если несколько упростить, мы можем назвать это
синдромом голодного, заметившего яблоко: видя яблоко на дереве, голодный
человек не видел самого дерева, – в лучшем случае он обращал внимание на
структуру веток, по которым можно залезть, или на палку, которой это яблоко
можно сбить.
Конечно, и в данных рассуждениях мы должны
допускать некоторую условность, имея в виду, что и первобытные времена бывали
исключения, по крайней мере теоретически. Даже у животных встречаются моменты
«обалдения» от необычности внешнего мира, – например, когда волчонок впервые
увидит снег и радостно прыгает по нему или когда котенок открывает для себя
существование клубка ниток. Выше речь идет об усредненном
отношении человека к миру и вещам, которое было тем бездушнее и функциональнее,
чем меньше собственного «Я» оставалось в индивиде.
Также нельзя забывать об уровнях общинного – о них разговор впереди.
Уровни предполагали разное соотношение между общинным и индивидуальным в
сознании каждого конкретного представителя группы, а также в коллективном
сознании разных групп, и соответственно свидетельствовали о разных масштабах
привязки к общинному образу жизни. Община ведь не распадалась сразу и в один
день, как по мановению волшебной палочки. И первобытный человек, и более
поздний – средневековый зависели от своей общины в огромной степени, – если
говорить о внешней стороне дела; но
внутренняя зависимость всё-таки с веками постепенно ослаблялась,
что в конечном счете и привело к отмиранию данного социального института, во
всяком случае, на значительной части Земли.
Поэтому
человек эпохи Возрождения, возможно, чуть чаще древнего обращал внимание на
красоту окружающего мира, хотя и вкладывал в это понятие несколько иной смысл,
чем вкладываем сегодня мы.
Впрочем, наше открытие красоты, как правило, пропорционально проснувшейся в
нас индивидуальности.
Вероятно, отдельно нужно рассмотреть вопрос о
теории и практике принципа обезличивания в России. Любые оценки российской
действительности прошлых лет должны производиться сквозь призму того факта,
что 80% ее жителей имели непосредственное отношение к крестьянской общине
вплоть до начала ХХ века. Россия испокон веков была крестьянской
страной, то есть удельный вес сельского населения по сравнению с городским был
непропорционально велик. Сельский образ жизни в силу особенностей организации
сохранял «общинность» куда дольше; это накладывало и на село вообще и на
Россию в частности неизгладимый отпечаток, который, к примеру, Карл Маркс без
обиняков называл «идиотизмом деревенской жизни».
Сказать, что крестьянская община была
тормозом для продвижения России вперед по пути прогресса, – значит, не сказать
ничего. Ведь одной из главных характерных особенностей всякой общины, включая
русскую, является подавление
инициативы, исходящей от того или иного индивидуума;
в общине обычно принято делать что-либо или всем вместе, или никак. Инициатива
же предполагает проявление некоторой, пусть и скромной, личной
самостоятельности, прорисовку своего лица, а это угрожает принципам
существования общины. Поэтому реформы П.А.Столыпина, покусившегося на самую ее
суть, никогда не пользовались популярностью в крестьянской среде и вызывали
ожесточенное коллективное
сопротивление.
События 1914-1921 гг. – мировая война,
революция и гражданская война – породили хаос в стране, предоставив общине
возможность самоорганизоваться и «зализать раны», нанесенные реформаторами.
Большевики (равно как и эсеры, у которых большевики переняли позицию по
крестьянскому вопросу) очень тонко почувствовали ту грань, которую недопустимо
переступать, чтобы у общины не появилась потребность защищаться. Членов общины
можно было грабить, убивать, сажать в тюрьмы, ссылать в лагеря, морить голодом
и т.д., – но сама идея
общины должна была при этом оставаться в неприкосновенности. Поэтому решение
ВКП(б) о создании коллективных хозяйств (колхозов), унифицирующих
распределение материальных благ и, скажем так, «законодательно закрепляющих»
естественные процессы в деревенской среде, было принято крестьянами на ура.
А.Жид, уже упоминавшийся выше в тексте, сообщал в 1936 году, что каждый
крестьянин старается вступить в колхоз; но напрасно – число колхозников
ограничено (из сборника «Возвращение из СССР», – М., Московский рабочий, 1990,
с.559).
Вообще
книга А.Жида, наделавшая столько шума в конце 1930-х,
является прекрасным иллюстративным материалом по истории принципа
обезличивания в СССР. Вот некоторые выдержки:
«Я был в
домах многих колхозников этого процветающего колхоза… Мне хотелось бы выразить
странное и грустное впечатление, которое производит «интерьер» в их домах:
впечатление абсолютной безликости. В каждом доме та же грубая мебель, тот же
портрет Сталина – и больше ничего. Ни одного предмета, ни одной вещи, которые
указывали бы на личность хозяина. Взаимозаменяемые жилища. До такой степени,
что колхозники (которые тоже кажутся взаимозаменяемыми) могли бы перебраться
из одного дома в другой и не заметить этого(сноска Жида). Конечно,
таким способом легче достигнуть счастья. Как мне говорили, радости у них тоже
общие… Всеобщее счастье достигается обезличиванием каждого. Счастье всех
достигается за счет каждого. Будьте как все, чтобы быть счастливым. (Сноска
Жида: Эта деперсонализация позволяет также предположить, что люди, которые
спят в общих спальнях, страдают от промискуитета, невозможности уединиться,
меньше, чем они страдали бы, сохраняя индивидуальность. Но сама эта, всеобщая
в СССР, тенденция к утрате личностного начала – может ли она рассматриваться
как прогресс?..)» (там же, с.535).
Несомненно, именно село стало поставщиком новых горожан взамен «вымытых»
войнами и революциями (погибших, эмигрировавших). Поэтому община в 1920-30-е
годы, особенно в период т.н. «индустриализации», пришла в города, точнее,
закрепилась в них еще сильнее по сравнению с тем, что было в царское время.
Этому немало способствовал и полукриминальный – если угодно, партийный, – тип
управления страной: чиновничий, обезличенный, бездушный, то есть в конечном
счете тоже общинный.
Отсюда – и деперсонализация
общества, в том числе городского, тонко подмеченная дотошным европейцем:
«Летом
почти все ходят в белом. Все друг на друга похожи. Нигде результаты
социального нивелирования не заметны до такой степени, как на московских
улицах, – словно в бесклассовом обществе у всех одинаковые нужды. Я, может
быть, преувеличиваю, но не слишком. В одежде исключительное однообразие.
Несомненно, то же самое обнаружилось бы и в умах, если бы это можно было бы
увидеть… Различия можно заметить, если только внимательно присмотреться. На
первый взгляд кажется, что человек настолько сливается с толпой, так мало в
нем личного, что можно было бы вообще не употреблять слово «люди», а обойтись
одним понятием «масса» (там же, с.530).
И еще:
«В СССР
решено однажды и навсегда, что по любому вопросу должно быть только одно
мнение. Впрочем, сознание людей сформировано таким образом, что этот
конформизм им не в тягость, он для них естествен… Каждое утро «Правда» им
сообщает, что следует знать, о чем думать и чему верить. И нехорошо не
подчиняться общему правилу. Получается, что, когда ты говоришь с каким-нибудь
русским, ты говоришь словно со всеми сразу. Не то чтобы он буквально следовал
каждому указанию, но в силу обстоятельств отличаться от других он просто не
может…» (там же, с.536).
Естественно, что мышление большинства советских людей в таких условиях
основывалось на принципе перенесения и принципе замещения. Первый проявлялся в
постоянном перенесении (намеренном и ненамеренном) марксистских, точнее,
ленинско-сталинских догм на все социальные процессы прошлого и настоящего, в
каком бы месте Земли они ни происходили. Второй психологически позволял
распространять какую-нибудь деталь, часто незначительных масштабов, на весь
СССР и советскую историю; скажем, захват вооруженными матросами
полуопустевшего Зимнего дворца (довольно заурядный, по меркам войны 1914-1918
годов, переворот) без труда превратился в Великую Октябрьскую социалистическую
революцию, а хорошо организованная рабочая смена отдельной, образцовой бригады
шахтеров или трактористов – «стахановцев» воспринималась как трудовой героизм
всего советского народа.
Практикующееся обезличивание позволяло всем
членам общины думать и говорить штампами, то есть теми же символами, знаками,
столь важными для общинной психологии. При этом мир реальный часто соединялся
с миром условным, воображаемым (ирреальным) в неразрывное целое, и грань между
обоими мирами провести было невозможно. Весьма показательна в этом плане
книга-«библия» «Краткий курс истории ВКП(б)», которая изобиловала условностями,
обобщенными, часто утрированными образами, односложными – знаковыми терминами
и понятиями («враги», «изверги», «вредить», «великий», «совершать подвиги» и
т.п.) и вводила читателя в некую «виртуальную реальность», воспринимаемую,
однако, на полном серьёзе. Если разобраться, эта главная книга советского
строя представляла собой литературно-исторический лубок
– вещь, незаменимую и востребованную,
с точки зрения общинного мышления и общинного восприятия действительности.
Давайте задумаемся, что формирует
коллективные вкусы, пристрастия и «духовные потребности» общины? Как правило,
ее представители получают не столько то, что им навязывают, сколько то, что
они расположены получать, к чему они имеют психологическую готовность – в
противном случае следует отторжение на самом начальном этапе. В этом
проявляется
обратная связь как внутри
общинного коллектива, так и вне его (община – окружающий мир); то есть здесь
мы видим ту же схему «всё равно всему», внутреннее состоит из тесно связанных,
воспроизводящих друг друга частей, каждая из которых является причиной и
следствием всех прочих, и при этом тождественно внешнему – имеется в виду, что
внешнее является как бы неразрывным продолжением любой из этих частичек.
Общинный человек с легкостью переносит «своё» на то, что, на первый взгляд,
лежит за пределами «своего», и рассчитывает на взаимность, то есть на то, что
пришедшее «оттуда» будет аналогичным, узнаваемым – в конечном итоге тоже «своим».
Всё, что укладывается в эту схему, будет признано, всё, что не укладывается, –
нет.
Поэтому до известной степени граница между внешним
и внутренним
будет для такого человека размыта (это правило не распространяется на
однозначно неприемлемое, лежащее по ту сторону сознания). Отсюда и тесное
переплетение миров: реального и ирреального, когда действительность включает в
себя элементы того, что необщинному человеку покажется невероятным. Мало того,
необщинный человек, отсекающий данную
ирреальность, просто посчитает, что общинный взирает на мир упрощенно, сужает
рамки собственного восприятия окружающего. Так, во всяком случае, часто
понимается со стороны.
Поэтому
любой лубок, кажущийся вульгарным, примитивным образованному индивидуалисту,
отнюдь не кажется таковым носителю общинного сознания.
Последний вообще слишком увлекается условностями, знаками, видит их во всём, –
например, в кино, если мы будем говорить о более современных общинных людях,
XX-XXI
веков. Возьмем, скажем, откровенно плохой фильм – с точки зрения классического
киноискусства, фильм насквозь фальшивый, с примитивной режиссурой и
допотопными приемами актерской игры. Подобное часто можно наблюдать в
низкопробных боевиках, дешевых комедиях и т.п. Что мы там видим? Вычурные
движения героев, которые мы почти никогда не встретим в жизни, неестественную
интонацию, странно поставленные голоса, искусственно построенные фразы,
диалоги «ни о чем», натянутые и высосанные из пальца, наконец, действия и
события, совершенно далекие от реальности. Как бы играют, как бы говорят, как бы действуют… Но не так это
воспринимается с позиции общинного зрителя. Для него фильм наполнен символами
– такими же реальными, как для нас реальна сама реальность. Какой-нибудь
супермен, борющийся со злом, в общем-то, обезличенный, с точки зрения хорошего
вкуса, является типичным порождением общинной идеологии и принимается как само
собой разумеющееся, – так, как у древних людей принимались рассказы о
чудо-богатырях.
Различные видимые
эффекты и спецэффекты здесь будут играть куда более важную роль, чем то, что
по определению увидеть нельзя (например, глубинный, внутренний мир героев).
С этой точки зрения, почти всё индийское кино,
весьма условное и неестественное, является типичным ожившим лубком и удовлетворяет запросам
усредненного общинного человека, не осознающего его неестественность.
Любопытна и такая деталь: стандартный
представитель общины не нуждается в
идентификации того, что он смотрит (видит
перед собой). То есть его ни в малой степени не интересуют проблемы авторства
и неповторимости, уникальности произведения.
Всё равно всему. Порой можно наблюдать такую забавную сценку: вы заходите в
помещение, наполненное людьми, предпочитающими сообща смотреть телевизор –
смотреть внимательно и часами подряд. На вопрос: «Что идет?» следует ответ: «Не
знаем» или «Фильм какой-то…» Это происходит потому, что общинному сознанию –
или элементам его у наших современников – свойственно в той или иной степени
обезличивать
окружающие вещи, предметы, явления. О чем мы уже говорили.
Отказ от качества – в угоду количеству
есть также суть характерная черта общины. Именно поэтому индийских фильмов
производится более тысячи в год; но их весьма трудно отличить друг от друга.
Если говорить о подлинном качестве авторских
произведений, то общинного человека оно пугает – или попросту остается
непонятным и потому не вызывающим никакого интереса. В действительно хороших
фильмах актерская игра,
как правило, не заметна – настоящий артист живет, а не играет. Уходят все
признаки условности, знаковости, остается лишь прямое, натуральное,
естественное, а потому какое-то «недоделанное», с точки зрения духовного мира
общины. Мало того, и актерская игра, и мастерство режиссера, оператора могут
вообще остаться незамеченными, ибо, как известно, замечаются отклонения от нормы, а не она сама
(по принципу: работу правительства замечают лишь тогда, когда оно работает
плохо).
С другой стороны, символизм встречается не
только в плохих фильмах, но и в фильмах блестящих, высочайшего уровня. Трудно,
скажем, представить более «знаковый» фильм, чем «Покаяние» Т.Абуладзе. Странно,
но подобные фильмы проходят мимо внимания общинного зрителя, как если бы их не
существовало. Это вынуждает думать, что примитивный символизм не тождествен символизму развитому, прочувствованному,
пронесенному через себя, точнее, через свою индивидуальность. Следовательно,
существует по крайней мере два типа условностей: условность, которая
понимается буквально, абсолютно, и условность, которая всегда относительна, то
есть понимается в переносном смысле. Впрочем, это касается отнюдь не только
условностей, но и организации мышления вообще:
Общинный подход предполагает
·
условность,
понимаемую буквально
·
буквальность,
понимаемую буквально
Более индивидуализированный подход
предполагает
·
буквальность,
понимаемую условно
·
условность,
понимаемую условно, в переносном смысле
а также
прямое, буквальное восприятие, когда в этом есть необходимость.
Вот то же на схеме:
 Из этой схемы следует, что мышление на
личностном уровне, более индивидуализированное, является и более сложным по
структуре по сравнению с мышлением общинного уровня. О чем мы также говорили
выше: развитое личностное, индивидуальное начало
в человеке пробуждает в нем способность к анализу (умение и желание мыслить
категориями различия и сходства, а также абсолютного и относительного), в то
время как преобладающий в общинном
человеке реактивный ум заставляет мыслить категориями тождества («всё равно
всему» – унификация, основанная на буквальном, абсолютном восприятии сущего и
неприятии относительных, переносных значений).
Реактивное, то есть несколько упрощенное и
перенасыщенное примитивными символами, мышление во многом искажает картину
мира, если судить с позиции иного уровня – так сказать, «противоположного
полюса»; но и наоборот. Кроме того, реактивное мышление определяет достаточно
своеобразный набор поведенческих реакций, который сильно отличается от всего
спектра действий «индивидуализированных» личностей. Порой создается
впечатление, что представители данных
разных систем попросту говорят между собой о разном и на разных языках: языках
побуждений, языках намерений, языках оценок, языках поступков…
Вот простая модель: типичный человек общины –
по воспитанию, мировоззрению, образу жизни, интересам, – в силу обстоятельств
соприкоснулся с человеком необщинным (внеобщинным)
– по стилю и духу – и дал последнему слово что-либо сделать. Однако
вероятность того, что обещание не будет выполнено, достаточно велика. Такова в
данном случае мера ответственности: слово, данное от своего лица, мало что значит, потому что лицо
размыто, ярко не выражено, – следовательно, и у данного слова нет четких
границ. Вернее, его слово имеет силу, но – в обоих, свойственных общинному
человеку, мирах – и в реальном, и в воображаемом (ирреальном, условном,
символическом), тогда как для необщинного человека этот, второй мир, в
общем-то, не существует. Поэтому возникает недопонимание.
Неумение
держать свое слово есть признак обезличенности, – во всяком случае, так
трактуется со стороны относительного индивидуалиста.
Всегда
ли слово не будет сдержано? Конечно, нет. Есть ситуации, когда данное обещание
будет выполнено точно и аккуратно, – как правило, в случаях, если община
специально уполномочила своего представителя выступать от ее имени. Обещание,
данное от лица всей общины, равно обещанию «индивидуализированного» лица.
Именно поэтому клятвы королей, вождей, патриархов общинного и феодального рода
в прежние времена в целом соблюдались с исключительной последовательностью.
Любопытно, что в «продвинутом» обществе – обществе индивидуалистов мы часто
наблюдаем прямо противоположную картину: обещания политиков не имеют особого
значения, ибо на деле политики представляют свой народ (свою группу) в
известном смысле формально. Тогда как обещания отдельных лиц другим конкретным
лицам ценятся на порядок выше и, чаще всего, свято соблюдаются.
Способность присутствовать как бы в двух мирах сразу при обезличивании внутри
своей группы лежит в основе еще одного, довольно странного, явления в общинной
среде – слабой сопротивляемости страданиям и смерти. Ранее мы говорили, что
понятие собственности внутри общины размыто; размыто и право индивидуального
владения своей жизнью. Человек, принадлежащий общине, принадлежит ей во всем.
Община ставит своей целью коллективное выживание, – как правило, в
определенных условиях, которые представляют для людей действительную или
мнимую
опасность, и долг каждого индивида сохранять жизнь всех (при этом собственная
жизнь будет считаться частным случаем общей жизни и, согласно принципу
замещения, вполне может ее заменять). В конце концов неважно, останется ли в
живых тот или иной конкретный член группы, важно чтобы группа в целом
продолжала существовать.
Этот
закон сохраняется и в животном мире. Так, олень может без труда пожертвовать
собой, чтобы отвести опасность от стада; но раненая особь, скорее всего, будет
добита соплеменниками, чтобы не стать обузой для прочих и, таким образом,
позволить выжить стаду в целом. У диких уток принято заклевывать насмерть свою
товарку, поломавшую крыло. И это – не жестокость. Это жизненная необходимость,
принимаемая в равной степени и жертвами.
Очень
интересный автор – историк, социолог, философ профессор А.С.Ахиезер в своей
книге «Россия: критика исторического опыта» (Новосибирск, «Сибирский хронограф»,
2014), вызвавшей резонанс в исследовательских кругах, приводит множество
своеобразных данных о жизни русской крестьянской общины
XIX века.
Среди них и факты, свидетельствующие о том, что «владелец» жизни как бы не
располагал ею в полной мере. Так, согласно Ахиезеру, в общине существовала
практика коллективно избирать кого-то из своей среды, чтобы выдать его по
требованию: «провинившегося» – на растерзание разгневанного барина, «солдата»
– если требуется кого-то отдать в армию (на 25 лет), «преступника» – если
нужно умилостивить полицейские власти, ищущие убийцу девушки в соседнем лесу и
т.д. и т.п. Выбор воспринимался как фатальная неизбежность. «Общинный бог»
требует жертв! Поэтому само поведение предназначенных на заклание отличалось
покорностью и – как бы сказали ранее – смиренностью.
Если у
общины был некий лидер тотемического толка (хозяин, князь, царь), на которого
распространялась неприкосновенность и чья воля воспринималась как направленная
сугубо на выживание всех, то любое его решение выполнялось беспрекословно.
Даже если это решение подразумевало лишение кого-либо условной –
внутриобщинной – собственности, например жизни («Там лучше знают, что надо, а
что не надо, я человек маленький!»).
И здесь мы вновь сталкиваемся с принципом
обратной связи, столь характерным для
общинного мышления: мало того, что «наверху» приговорили какую-то обезличенную
частичку к смерти, – сама эта частичка воспринимает приговор как необходимость
и, как ни безумно это звучит, подсознательно готова к нему и как бы «духовно»
востребует его.
Не нужно искать в этих действиях логики. Логика характерна для одного мира, но
общинный человек обитает как бы в двух мирах сразу, легко переходит из одного
в другой, и жизнь для него порой тождественна смерти (не в физическом, а,
скажем так, в нравственно-философском аспекте); при этом с нашей – сторонней –
точки зрения собственная жизнь для него «размыта», насколько «размыт» и он сам,
его индивидуальность, его лицо.
Поэтому
погибнуть при строительстве пирамиды Хеопса у древних египтян, по-видимому,
считалось достаточно естественным делом (египтяне вообще обожествляли мертвых
и даже строили для них целые города, в которых проводили всё свое свободное
время, праздники и проч.). И не было ничего зазорного в том, чтобы взойти на
алтарь жертвоприношений у древних ацтеков или майя, отдав свое сердце ради
того, чтобы «вечный круговорот жизни» шел свои ходом (религии мезоамериканских
индейцев идеологически основывались на подпитке «коллективного» бога жизни
индивидуальными жизнями, – в противном случае, по их понятиям, разрушился бы
мир).
Где есть
община – там есть относительно упрощенное, порой слишком примирительное
отношение к смерти, умиранию как таковому, во всяком случае, в этом отношении
проявляется хорошо заметный фатализм. И.Кон сообщает, что в средние века
смерть психологически по-другому воспринималась западноевропейцами – как
закономерный акт жизненного цикла, предначертанная необходимость; слёзы весьма
многочисленных родственников, потерявших кого-либо из своего окружения,
определялись в большей степени ритуалами, чем глубинным миром чувств (здесь
речь идет, конечно, об общей тенденции, а не о том или ином конкретном эпизоде).
Если говорить о совсем малых детях, то о них в общине могли вообще почти не
горевать; детская жизнь в эпоху крайне низкой продолжительности жизни не
стоила почти ничего – об этом писал в свое время и Чарлз Диккенс.
Возвращаясь к «общинному прошлому»
сталинского СССР, нельзя не признать его огромное влияние на поведение больших
масс людей в годы Великой Отечественной войны. У человека непосвященного
вызывает недоумение совершенно ненормальные для любой войны масштабы
человеческих жертв – 20 миллионов жизней с советской стороны в 1941-1945 гг.,
даже по официальным данным (по неофициальным – 25-30 миллионов). На каждого
погибшего немца приходилось по двое-трое погибших жителей СССР. Солдат
командование не считало и не жалело, это общеизвестно; многие битвы
выигрывались просто за счет чисто арифметического перевеса сил, особенно в
первые годы. Но за этими фактами скрывается и другое. Мы не должны забывать о
присущей любой общинной организации
обратной связи между «верхом» и «низом». Иными словами, людей не просто
посылали зачастую на верную смерть, но сами люди своей манерой поведения,
мотивацией поступков, мировоззренческой позицией, наконец, вынуждали генералов
прибегать к определенной тактике и стратегии ведения войны. Стереотип
поведения солдата играет огромную, возможно, решающую роль в любой военной
кампании. Можно закрыть амбразуру пулемета своим телом, броситься с гранатами
под танк – и выиграть войну. Но можно этого не делать – и, тем не менее,
выиграть войну. Опыт военных операций современных западных стран (имеется в
виду общая организация ведения войны,
а вовсе не наличие суперсовременной техники) показывает, что потери среди
личного состава можно свести к минимуму в большинстве ситуаций. Важно то, как
реагирует боец на саму суть армии и боевых действий. Ведь каково общество –
такова и армия, такова и суть.
В конечном
счете, систематическая готовность к самопожертвованию – это скорее
отрицательная черта характера. В массовом масштабе она говорит о пассивном
отношении к категории жизнь
и о низкой оценке своего присутствия в мире. Как сказал по этому поводу в свое
время Пётр
I
(по преданию): «Дурак! Не умереть надо, – победить!»
А у
Андрея Вознесенского есть такие пронзительные строки: «Невыносимо, когда
насильно, а добровольней – невыносимей»…
Смиренное отношение к уходу из этого
мира (в некий символический другой?), размытость, нечеткость границы между
реальностью и ирреальностью у общинного человека по идее приводят и к
размытости понятий, связанных с жизнью и смертью. Вспомним, что слова «разрушить»,
«уничтожить», «истребить», в разное время – и у разных общинных народов –
могли иметь несколько разное значение. Теперь становится понятно, что для того,
чтобы совершенно однозначно трактовать некоторые исторические документы (например,
сообщающие число «убиенных») нужно, по крайней мере, представлять себе степень
символизма, вкладываемого в их содержание авторами. Речь здесь идет о некой
условности – что именно считать, скажем, убийством и что не считать, кого
определять как живых и кого в качестве таковых не рассматривать.
Таким
образом, попытки судить об общинном прошлом (и настоящем) человечества без
знания элементарных «правил игры» – весьма неблагодарное занятие…
…Где и когда начался рост индивидуального
начала в человеческих обществах? По-видимому, там, где в силу случайного
сочетания факторов сложились более благоприятные условия для постепенного
распада общины и отказа от «общинного стиля». В принципе это могло произойти
где угодно – в Китае, у индейцев обеих Америк, на африканском континенте;
случайность здесь влияла на географический разброс, но отступала перед
неотвратимостью самого процесса. Так уж случилось, что «индивидуализация»
затронула первым делом Европу, точнее, ее западную часть, и именно это
обстоятельство во многом обеспечило известный «прорыв» европейцев во всех
сферах экономической, социальной, научной жизни в последние 300-500 лет. Вот
как это постепенно происходило (по И.Кону):
«В эпоху
Возрождения личность начинают превозносить как высшую социальную ценность, по
отношению к которой любые общественные институты и нормы являются только
средствами» (упоминавшаяся выше работа «Открытие «Я», с.186).
«Зарождение
капитализма, писал В.И.Ленин, означало «подъем чувства личности». Это был
сложный процесс, в котором объективное (пространственное и социальное)
обособление индивида и рост его социальной самостоятельности сочетались с
повышением психологической ценности «Я», интимизацией и усложнением
внутреннего мира личности» (с.183).
«Индивид буржуазного общества… проявляет
повышенную чувствительность и даже неприязнь к тому, что кажется ему «заданным»
извне, это делает его «Я» гораздо более значимым и активным…» (с.185).
Итак, в
период позднего средневековья и нового времени полным ходом идет процесс
интимизации отношений между людьми и формирования такого понятия как «личностная
самостоятельность», «индивидуальность». В домах появляется разделение на
комнаты, да и сами дома
коммуникационно отгораживаются от обезличенной
среды, на дверях устанавливаются замки; человек учится смотреть в глубь себя
(в спокойной обстановке), появляется искусство автопортрета, жанр
автобиографии, к
XVIII
веку становятся модными романы, в которых повествование ведется от первого
лица.
Авторы начинают заботиться об авторском праве, – да, собственно говоря,
человек вообще начинает понимать, что такое цивилизованное право и зачем оно
нужно (включая права человека как
таковые). Более психологичными становятся европейские языки – так, в Англии
XVII
века впервые появляется слово «характер», относящееся к человеческой
индивидуальности.
Постепенно меняется отношение индивида к
жизни и смерти, и четко прочерчивается граница между ними. Человек вдруг
открывает для себя, что в мире существуют страдания (ранее, кроме страданий,
ничего не замечали и поэтому относились к ним как к чему-то само собой
разумеющемуся, – как к фону).
По крайней мере, тема страданий уже не сходит с полотен художников и со
страниц книг.
Аристократия мало-помалу додумалась до того, что и «у крестьян есть души».
Выше стали цениться человеческие свобода, независимость, а также жизнь как
физическое, биологическое явление.
Ужесточается законодательство, регулирующее наказания за преступления против
личности и, в особенности, за убийства, возникает регулярная полиция (а позже,
на рубеже 1800-х гг., – и уголовный сыск); усиленным ходом развивается
медицина. Появляются даже газеты с первыми разделами криминальной хроники, что
до наступления «просвещенного столетия» казалось просто немыслимым.
По мере
зарождения зачатков буржуазного строя – в
XVI-XVIII
вв. – западноевропейские общества, достигшие определенного уровня отказа от
общинного начала, переживают бум религиозной реформации. Природа реформации (возникновения
протестантизма) понятна – человек желал интимизировать свои отношения с Богом
и общаться с ним уже не через «представителя общины» – жреца, священника либо
институт священнослужителей вообще, а напрямую. Кроме того, человек-личность
нуждался в Боге-личности, а не обезличенной духовной субстанции, наполняющей
собою мир. То, что стоит выше смертного, то, что царствует над ним, может в
принципе спасти его в эпоху бесконечного насилия, привычной общинной жесткости,
«размытости» жизни и небытия, – если, конечно, захочет. Но для этого оно
должно обладать одним свойством: милосердием, жалостью, всепониманием и
всепрощением. А это уже несовместимо с безличием! И Верховное Божество
наделяется новыми функциями, вытекающими из осознанного «Я».
Одним словом, какова суть человека, такова и увиденная им суть Бога…
Конечно,
процесс усложнения внутреннего мира личности и соответственно вычленения индивидуального
из общинного
занял довольно продолжительное время. Мы уже говорили, что в основном он был
завершен примерно к
XVIII-XIX
векам, по крайней мере, в западных странах и – частично – западном
христианстве. Соответственно шагнула далеко вперед и европейская наука. Однако
изжить из себя общинные представления полностью, целиком, видимо, так до конца
и не удалось; следствием является использование принципа перенесения и
принципа замещения в исторических дисциплинах и исторической литературе,
которое и по сей день периодически прослеживается в работах западных (организованных
на западный манер) ученых.
Зачем мы здесь вкратце прогулялись по истории
человеческого начала? Мне бы очень хотелось подчеркнуть существование неких уровней
общинного в человеке, своего рода этажей, соответствующих степени отказа от
примитивного коллективизма – со всеми его особенностями и принципами,
рассматриваемыми в данной статье. Было бы неверным подходить к этому
чрезвычайно сложному, глубинному процессу по-своему упрощенно: либо с точки
зрения общины (одного полюса), либо – развитого индивидуализма (другого). Мне
видится, что на начальном этапе человек отказывается от «общинного стиля» во
всем, что его непосредственно окружает, и во всем, что составляет хорошо
знакомый ему мир, – вот это-то, вероятно, в западном и субзападном обществе
уже и произошло (водоразделом можно считать последнее столетие). Но на
следующем этапе человек должен изжить общинные пережитки в своем отношении к минувшим эпохам и культурам, которые
структурно отличались (или отличаются) от того, что он видит или хотел бы
видеть вокруг себя, – надо полагать, что эта задача пока не выполнена.
И именно
это, последнее обстоятельство заставляет порой трактовать события общинной
истории с необщинной (индивидуализированной) точки зрения – прием, приводящий
на практике к искажению реальных исторических событий, в чем, как я надеюсь,
читатель получил возможность убедиться по мере чтения статьи.
Видимо, крайне, крайне важно почувствовать
тонкую грань перехода от одного
общеопредяляющего взгляда к другому,
причем через все промежуточные ступени. Подлинная культура исторической науки,
как и культура вообще, должна предполагать осознание разницы между тем и иным
психологическим состоянием человека, группы, очень большой группы людей.
Малейшие нюансы, не замеченные, не учтенные нами, могут привести нас к
чрезмерно субъективным выводам. И в конечном счете это негативно скажется не
столько на объектах исследования, сколько на субъектах, то есть на нас самих.
К сожалению, приходится констатировать –
принцип обезличивания никуда не исчез и сегодня, хотя в известной мере устои
его поколеблены со стороны некоторых, наиболее продвинутых научных школ. Он
проявляется в том, что мы как-то просто, почти повсеместно, не задумываясь, обезличиваем историю, не представляя
себе уникальность ее отдельных фрагментов, отдельных частичек, и, таким
образом, получаем удобный для нас, но в целом однообразный и повторяемый фон.
Как знать, может быть, поэтому я стараюсь лишний раз не читать романы о
далеком прошлом и не смотреть роскошные костюмированные псевдоисторические
боевики – интерес к ним, увы, делает нечувствительным к подлинному дыханию
столетий…
Олег
Бондаренко,
7
декабря 2014 года
г.Бишкек,
Киргизия
Эта статья написана ко
дню рождения моего друга Сергея Куклина в качестве подарка.
Из этой схемы следует, что мышление на
личностном уровне, более индивидуализированное, является и более сложным по
структуре по сравнению с мышлением общинного уровня. О чем мы также говорили
выше: развитое личностное, индивидуальное начало
в человеке пробуждает в нем способность к анализу (умение и желание мыслить
категориями различия и сходства, а также абсолютного и относительного), в то
время как преобладающий в общинном
человеке реактивный ум заставляет мыслить категориями тождества («всё равно
всему» – унификация, основанная на буквальном, абсолютном восприятии сущего и
неприятии относительных, переносных значений).
Реактивное, то есть несколько упрощенное и
перенасыщенное примитивными символами, мышление во многом искажает картину
мира, если судить с позиции иного уровня – так сказать, «противоположного
полюса»; но и наоборот. Кроме того, реактивное мышление определяет достаточно
своеобразный набор поведенческих реакций, который сильно отличается от всего
спектра действий «индивидуализированных» личностей. Порой создается
впечатление, что представители данных
разных систем попросту говорят между собой о разном и на разных языках: языках
побуждений, языках намерений, языках оценок, языках поступков…
Вот простая модель: типичный человек общины –
по воспитанию, мировоззрению, образу жизни, интересам, – в силу обстоятельств
соприкоснулся с человеком необщинным (внеобщинным)
– по стилю и духу – и дал последнему слово что-либо сделать. Однако
вероятность того, что обещание не будет выполнено, достаточно велика. Такова в
данном случае мера ответственности: слово, данное от своего лица, мало что значит, потому что лицо
размыто, ярко не выражено, – следовательно, и у данного слова нет четких
границ. Вернее, его слово имеет силу, но – в обоих, свойственных общинному
человеку, мирах – и в реальном, и в воображаемом (ирреальном, условном,
символическом), тогда как для необщинного человека этот, второй мир, в
общем-то, не существует. Поэтому возникает недопонимание.
Неумение
держать свое слово есть признак обезличенности, – во всяком случае, так
трактуется со стороны относительного индивидуалиста.
Всегда
ли слово не будет сдержано? Конечно, нет. Есть ситуации, когда данное обещание
будет выполнено точно и аккуратно, – как правило, в случаях, если община
специально уполномочила своего представителя выступать от ее имени. Обещание,
данное от лица всей общины, равно обещанию «индивидуализированного» лица.
Именно поэтому клятвы королей, вождей, патриархов общинного и феодального рода
в прежние времена в целом соблюдались с исключительной последовательностью.
Любопытно, что в «продвинутом» обществе – обществе индивидуалистов мы часто
наблюдаем прямо противоположную картину: обещания политиков не имеют особого
значения, ибо на деле политики представляют свой народ (свою группу) в
известном смысле формально. Тогда как обещания отдельных лиц другим конкретным
лицам ценятся на порядок выше и, чаще всего, свято соблюдаются.
Способность присутствовать как бы в двух мирах сразу при обезличивании внутри
своей группы лежит в основе еще одного, довольно странного, явления в общинной
среде – слабой сопротивляемости страданиям и смерти. Ранее мы говорили, что
понятие собственности внутри общины размыто; размыто и право индивидуального
владения своей жизнью. Человек, принадлежащий общине, принадлежит ей во всем.
Община ставит своей целью коллективное выживание, – как правило, в
определенных условиях, которые представляют для людей действительную или
мнимую
опасность, и долг каждого индивида сохранять жизнь всех (при этом собственная
жизнь будет считаться частным случаем общей жизни и, согласно принципу
замещения, вполне может ее заменять). В конце концов неважно, останется ли в
живых тот или иной конкретный член группы, важно чтобы группа в целом
продолжала существовать.
Этот
закон сохраняется и в животном мире. Так, олень может без труда пожертвовать
собой, чтобы отвести опасность от стада; но раненая особь, скорее всего, будет
добита соплеменниками, чтобы не стать обузой для прочих и, таким образом,
позволить выжить стаду в целом. У диких уток принято заклевывать насмерть свою
товарку, поломавшую крыло. И это – не жестокость. Это жизненная необходимость,
принимаемая в равной степени и жертвами.
Очень
интересный автор – историк, социолог, философ профессор А.С.Ахиезер в своей
книге «Россия: критика исторического опыта» (Новосибирск, «Сибирский хронограф»,
2014), вызвавшей резонанс в исследовательских кругах, приводит множество
своеобразных данных о жизни русской крестьянской общины
XIX века.
Среди них и факты, свидетельствующие о том, что «владелец» жизни как бы не
располагал ею в полной мере. Так, согласно Ахиезеру, в общине существовала
практика коллективно избирать кого-то из своей среды, чтобы выдать его по
требованию: «провинившегося» – на растерзание разгневанного барина, «солдата»
– если требуется кого-то отдать в армию (на 25 лет), «преступника» – если
нужно умилостивить полицейские власти, ищущие убийцу девушки в соседнем лесу и
т.д. и т.п. Выбор воспринимался как фатальная неизбежность. «Общинный бог»
требует жертв! Поэтому само поведение предназначенных на заклание отличалось
покорностью и – как бы сказали ранее – смиренностью.
Если у
общины был некий лидер тотемического толка (хозяин, князь, царь), на которого
распространялась неприкосновенность и чья воля воспринималась как направленная
сугубо на выживание всех, то любое его решение выполнялось беспрекословно.
Даже если это решение подразумевало лишение кого-либо условной –
внутриобщинной – собственности, например жизни («Там лучше знают, что надо, а
что не надо, я человек маленький!»).
И здесь мы вновь сталкиваемся с принципом
обратной связи, столь характерным для
общинного мышления: мало того, что «наверху» приговорили какую-то обезличенную
частичку к смерти, – сама эта частичка воспринимает приговор как необходимость
и, как ни безумно это звучит, подсознательно готова к нему и как бы «духовно»
востребует его.
Не нужно искать в этих действиях логики. Логика характерна для одного мира, но
общинный человек обитает как бы в двух мирах сразу, легко переходит из одного
в другой, и жизнь для него порой тождественна смерти (не в физическом, а,
скажем так, в нравственно-философском аспекте); при этом с нашей – сторонней –
точки зрения собственная жизнь для него «размыта», насколько «размыт» и он сам,
его индивидуальность, его лицо.
Поэтому
погибнуть при строительстве пирамиды Хеопса у древних египтян, по-видимому,
считалось достаточно естественным делом (египтяне вообще обожествляли мертвых
и даже строили для них целые города, в которых проводили всё свое свободное
время, праздники и проч.). И не было ничего зазорного в том, чтобы взойти на
алтарь жертвоприношений у древних ацтеков или майя, отдав свое сердце ради
того, чтобы «вечный круговорот жизни» шел свои ходом (религии мезоамериканских
индейцев идеологически основывались на подпитке «коллективного» бога жизни
индивидуальными жизнями, – в противном случае, по их понятиям, разрушился бы
мир).
Где есть
община – там есть относительно упрощенное, порой слишком примирительное
отношение к смерти, умиранию как таковому, во всяком случае, в этом отношении
проявляется хорошо заметный фатализм. И.Кон сообщает, что в средние века
смерть психологически по-другому воспринималась западноевропейцами – как
закономерный акт жизненного цикла, предначертанная необходимость; слёзы весьма
многочисленных родственников, потерявших кого-либо из своего окружения,
определялись в большей степени ритуалами, чем глубинным миром чувств (здесь
речь идет, конечно, об общей тенденции, а не о том или ином конкретном эпизоде).
Если говорить о совсем малых детях, то о них в общине могли вообще почти не
горевать; детская жизнь в эпоху крайне низкой продолжительности жизни не
стоила почти ничего – об этом писал в свое время и Чарлз Диккенс.
Возвращаясь к «общинному прошлому»
сталинского СССР, нельзя не признать его огромное влияние на поведение больших
масс людей в годы Великой Отечественной войны. У человека непосвященного
вызывает недоумение совершенно ненормальные для любой войны масштабы
человеческих жертв – 20 миллионов жизней с советской стороны в 1941-1945 гг.,
даже по официальным данным (по неофициальным – 25-30 миллионов). На каждого
погибшего немца приходилось по двое-трое погибших жителей СССР. Солдат
командование не считало и не жалело, это общеизвестно; многие битвы
выигрывались просто за счет чисто арифметического перевеса сил, особенно в
первые годы. Но за этими фактами скрывается и другое. Мы не должны забывать о
присущей любой общинной организации
обратной связи между «верхом» и «низом». Иными словами, людей не просто
посылали зачастую на верную смерть, но сами люди своей манерой поведения,
мотивацией поступков, мировоззренческой позицией, наконец, вынуждали генералов
прибегать к определенной тактике и стратегии ведения войны. Стереотип
поведения солдата играет огромную, возможно, решающую роль в любой военной
кампании. Можно закрыть амбразуру пулемета своим телом, броситься с гранатами
под танк – и выиграть войну. Но можно этого не делать – и, тем не менее,
выиграть войну. Опыт военных операций современных западных стран (имеется в
виду общая организация ведения войны,
а вовсе не наличие суперсовременной техники) показывает, что потери среди
личного состава можно свести к минимуму в большинстве ситуаций. Важно то, как
реагирует боец на саму суть армии и боевых действий. Ведь каково общество –
такова и армия, такова и суть.
В конечном
счете, систематическая готовность к самопожертвованию – это скорее
отрицательная черта характера. В массовом масштабе она говорит о пассивном
отношении к категории жизнь
и о низкой оценке своего присутствия в мире. Как сказал по этому поводу в свое
время Пётр
I
(по преданию): «Дурак! Не умереть надо, – победить!»
А у
Андрея Вознесенского есть такие пронзительные строки: «Невыносимо, когда
насильно, а добровольней – невыносимей»…
Смиренное отношение к уходу из этого
мира (в некий символический другой?), размытость, нечеткость границы между
реальностью и ирреальностью у общинного человека по идее приводят и к
размытости понятий, связанных с жизнью и смертью. Вспомним, что слова «разрушить»,
«уничтожить», «истребить», в разное время – и у разных общинных народов –
могли иметь несколько разное значение. Теперь становится понятно, что для того,
чтобы совершенно однозначно трактовать некоторые исторические документы (например,
сообщающие число «убиенных») нужно, по крайней мере, представлять себе степень
символизма, вкладываемого в их содержание авторами. Речь здесь идет о некой
условности – что именно считать, скажем, убийством и что не считать, кого
определять как живых и кого в качестве таковых не рассматривать.
Таким
образом, попытки судить об общинном прошлом (и настоящем) человечества без
знания элементарных «правил игры» – весьма неблагодарное занятие…
…Где и когда начался рост индивидуального
начала в человеческих обществах? По-видимому, там, где в силу случайного
сочетания факторов сложились более благоприятные условия для постепенного
распада общины и отказа от «общинного стиля». В принципе это могло произойти
где угодно – в Китае, у индейцев обеих Америк, на африканском континенте;
случайность здесь влияла на географический разброс, но отступала перед
неотвратимостью самого процесса. Так уж случилось, что «индивидуализация»
затронула первым делом Европу, точнее, ее западную часть, и именно это
обстоятельство во многом обеспечило известный «прорыв» европейцев во всех
сферах экономической, социальной, научной жизни в последние 300-500 лет. Вот
как это постепенно происходило (по И.Кону):
«В эпоху
Возрождения личность начинают превозносить как высшую социальную ценность, по
отношению к которой любые общественные институты и нормы являются только
средствами» (упоминавшаяся выше работа «Открытие «Я», с.186).
«Зарождение
капитализма, писал В.И.Ленин, означало «подъем чувства личности». Это был
сложный процесс, в котором объективное (пространственное и социальное)
обособление индивида и рост его социальной самостоятельности сочетались с
повышением психологической ценности «Я», интимизацией и усложнением
внутреннего мира личности» (с.183).
«Индивид буржуазного общества… проявляет
повышенную чувствительность и даже неприязнь к тому, что кажется ему «заданным»
извне, это делает его «Я» гораздо более значимым и активным…» (с.185).
Итак, в
период позднего средневековья и нового времени полным ходом идет процесс
интимизации отношений между людьми и формирования такого понятия как «личностная
самостоятельность», «индивидуальность». В домах появляется разделение на
комнаты, да и сами дома
коммуникационно отгораживаются от обезличенной
среды, на дверях устанавливаются замки; человек учится смотреть в глубь себя
(в спокойной обстановке), появляется искусство автопортрета, жанр
автобиографии, к
XVIII
веку становятся модными романы, в которых повествование ведется от первого
лица.
Авторы начинают заботиться об авторском праве, – да, собственно говоря,
человек вообще начинает понимать, что такое цивилизованное право и зачем оно
нужно (включая права человека как
таковые). Более психологичными становятся европейские языки – так, в Англии
XVII
века впервые появляется слово «характер», относящееся к человеческой
индивидуальности.
Постепенно меняется отношение индивида к
жизни и смерти, и четко прочерчивается граница между ними. Человек вдруг
открывает для себя, что в мире существуют страдания (ранее, кроме страданий,
ничего не замечали и поэтому относились к ним как к чему-то само собой
разумеющемуся, – как к фону).
По крайней мере, тема страданий уже не сходит с полотен художников и со
страниц книг.
Аристократия мало-помалу додумалась до того, что и «у крестьян есть души».
Выше стали цениться человеческие свобода, независимость, а также жизнь как
физическое, биологическое явление.
Ужесточается законодательство, регулирующее наказания за преступления против
личности и, в особенности, за убийства, возникает регулярная полиция (а позже,
на рубеже 1800-х гг., – и уголовный сыск); усиленным ходом развивается
медицина. Появляются даже газеты с первыми разделами криминальной хроники, что
до наступления «просвещенного столетия» казалось просто немыслимым.
По мере
зарождения зачатков буржуазного строя – в
XVI-XVIII
вв. – западноевропейские общества, достигшие определенного уровня отказа от
общинного начала, переживают бум религиозной реформации. Природа реформации (возникновения
протестантизма) понятна – человек желал интимизировать свои отношения с Богом
и общаться с ним уже не через «представителя общины» – жреца, священника либо
институт священнослужителей вообще, а напрямую. Кроме того, человек-личность
нуждался в Боге-личности, а не обезличенной духовной субстанции, наполняющей
собою мир. То, что стоит выше смертного, то, что царствует над ним, может в
принципе спасти его в эпоху бесконечного насилия, привычной общинной жесткости,
«размытости» жизни и небытия, – если, конечно, захочет. Но для этого оно
должно обладать одним свойством: милосердием, жалостью, всепониманием и
всепрощением. А это уже несовместимо с безличием! И Верховное Божество
наделяется новыми функциями, вытекающими из осознанного «Я».
Одним словом, какова суть человека, такова и увиденная им суть Бога…
Конечно,
процесс усложнения внутреннего мира личности и соответственно вычленения индивидуального
из общинного
занял довольно продолжительное время. Мы уже говорили, что в основном он был
завершен примерно к
XVIII-XIX
векам, по крайней мере, в западных странах и – частично – западном
христианстве. Соответственно шагнула далеко вперед и европейская наука. Однако
изжить из себя общинные представления полностью, целиком, видимо, так до конца
и не удалось; следствием является использование принципа перенесения и
принципа замещения в исторических дисциплинах и исторической литературе,
которое и по сей день периодически прослеживается в работах западных (организованных
на западный манер) ученых.
Зачем мы здесь вкратце прогулялись по истории
человеческого начала? Мне бы очень хотелось подчеркнуть существование неких уровней
общинного в человеке, своего рода этажей, соответствующих степени отказа от
примитивного коллективизма – со всеми его особенностями и принципами,
рассматриваемыми в данной статье. Было бы неверным подходить к этому
чрезвычайно сложному, глубинному процессу по-своему упрощенно: либо с точки
зрения общины (одного полюса), либо – развитого индивидуализма (другого). Мне
видится, что на начальном этапе человек отказывается от «общинного стиля» во
всем, что его непосредственно окружает, и во всем, что составляет хорошо
знакомый ему мир, – вот это-то, вероятно, в западном и субзападном обществе
уже и произошло (водоразделом можно считать последнее столетие). Но на
следующем этапе человек должен изжить общинные пережитки в своем отношении к минувшим эпохам и культурам, которые
структурно отличались (или отличаются) от того, что он видит или хотел бы
видеть вокруг себя, – надо полагать, что эта задача пока не выполнена.
И именно
это, последнее обстоятельство заставляет порой трактовать события общинной
истории с необщинной (индивидуализированной) точки зрения – прием, приводящий
на практике к искажению реальных исторических событий, в чем, как я надеюсь,
читатель получил возможность убедиться по мере чтения статьи.
Видимо, крайне, крайне важно почувствовать
тонкую грань перехода от одного
общеопредяляющего взгляда к другому,
причем через все промежуточные ступени. Подлинная культура исторической науки,
как и культура вообще, должна предполагать осознание разницы между тем и иным
психологическим состоянием человека, группы, очень большой группы людей.
Малейшие нюансы, не замеченные, не учтенные нами, могут привести нас к
чрезмерно субъективным выводам. И в конечном счете это негативно скажется не
столько на объектах исследования, сколько на субъектах, то есть на нас самих.
К сожалению, приходится констатировать –
принцип обезличивания никуда не исчез и сегодня, хотя в известной мере устои
его поколеблены со стороны некоторых, наиболее продвинутых научных школ. Он
проявляется в том, что мы как-то просто, почти повсеместно, не задумываясь, обезличиваем историю, не представляя
себе уникальность ее отдельных фрагментов, отдельных частичек, и, таким
образом, получаем удобный для нас, но в целом однообразный и повторяемый фон.
Как знать, может быть, поэтому я стараюсь лишний раз не читать романы о
далеком прошлом и не смотреть роскошные костюмированные псевдоисторические
боевики – интерес к ним, увы, делает нечувствительным к подлинному дыханию
столетий…
Олег
Бондаренко,
7
декабря 2014 года
г.Бишкек,
Киргизия
Эта статья написана ко
дню рождения моего друга Сергея Куклина в качестве подарка.
Смутное представление о том, что правильно, а что нет; оно вытекает не из
обучения, а из аналитических основ человеческого разума.
Норма определяется потенциальными возможностями человека как такового и
его разума. Кроме того, автор данной статьи придерживается мнения, что
нормой считается не большее, а лучшее, т.е. в основе определения нормы –
не количественный, а качественный аспект.
Другой вариант: активнее в отрицательном смысле, с точки зрения разрушения.
Взамен остается реактивный стиль мышления и познания окружающей
действительности (от слова ре-акция: есть действие – и возникает
противодействие, появляется раздражитель – на него следует ответ).
Реактивный ум мыслит категорией тождества: всё равно всему, равное
раздражение вызывает равную по силе и содержанию реакцию.
Действителен и обратный вариант: иногда мы не способны адекватно
воспринять уровень более низкий по сравнению с нашим собственным. Об этом,
кстати, и идет речь в данной работе.
То есть цивилизации майя, ацтеков и родственные им.
Ранее считалось, что мы произошли от неандертальцев. Теперь, таким образом,
считается, что человек разумный кроманьонского типа развивался
изолированно от неандертальцев и наряду с ними, а потом – просто убрал с
дороги несколько более низких по уровню развитию «конкурентов» другой
генетической модификации.
По сообщению римских авторов, во времена основателя Рима Ромула жители
окрестных селений не хотели отдавать своих дочерей в жены римлянам, и
римляне, пригласив соседнее племя сабинян на праздник, силой захватили их
дочерей и так добыли себе жен.
Елена Прекрасная, невестка царя Агамемнона, сбежала в Трою, и обиженный
Агамемнон уговорил всех греческих царей направить свои войска к Трое,
чтобы «восстановить справедливость». По преданиям, Троянская война
продолжалась десять лет.
Например, у ацтеков – два царя договаривались о сроках начала военной
кампании с тем, чтобы добыть в бою больше пленных («возлюбленных сыновей»),
которых затем приносили в жертву богам.
Южноафриканский правитель Шака, известный как «негритянский Наполеон», да
и живший с Наполеоном в одну эпоху, поверг соседние с ним, завоеванные им
и подчиненные ему земли и страны в пучину террора. По разным оценкам, он
истребил – часто «просто так» – до двух миллионов африканцев.
В США, например, существует немало исследовательской и учебной литературы,
в которой преувеличенно большое внимание уделяется равенству полов. В
результате иногда односторонне освещается роль той или иной личности в
истории – женские персонажи, даже малозаметные, намеренно выпячиваются
вперед, а некоторые мужские – напротив, «задвигаются» в тень.
Потому что сражаться приходилось с обезличенным врагом, символизирующим
собой темные, «потусторонние» силы, мир хаоса. Здесь позволю себе вернуть
читателя к условной фразе, прозвучавшей чуть выше: «Мужики, бусурмане
наших бьют!..»
То есть за действия, не совместимые с выживанием общины и ставящие под
угрозу ее устоявшиеся отношения с окружающей средой.
Имеется в виду, что один волос или обрезок ногтя человека может подменять
собой всего человека – и т.д.
Мнение девушки здесь обычно не играло особой роли и вот почему: все в
общине были равны (в пределах своей возрастной группы) и, в известной
степени, взаимозаменяемы – не этот, так тот! Одна часть целого без труда
заменялась другой.
Очень важное дополнение к тексту: общинная организация жизни предполагает
примерно равный доход каждого члена общины. Поэтому если чей-то доход
резко уменьшается вследствие внешних обстоятельств, то община организует
помощь. Но верно и обратное: ничей доход не должен заметно превышать
средний уровень. Если чей-то доход почему-либо резко увеличивается, то
община реагирует на это крайне отрицательно – вплоть до того, что
препятствует росту благосостояния «счастливчика», сохраняя, таким образом,
саму себя. Эту защитную реакцию иногда в социологии неверно квалифицируют
как «зависть».
Это правило сохраняется и сегодня, например, в республиках Средней Азии.
Как известно, для них характерен трайболизм – заметно выраженное
разделение по родоплеменному признаку. Род не имеет руководителя в
буквальном смысле слова, все вопросы решаются как бы сами собой, по «общему
мнению», причем очень быстро (особенно в деле соблюдения ритуалов) – по
схеме, выработанной поколения назад. Если вопрос не укладывается ни в
какие схемы, то община его не рассматривает вообще (игнорирует).
Примером является богатство церкви, церковной общины. А в Древнем Египте
богатство храмов и правителей также рассматривалось как общее достояние;
именно поэтому пирамиды строили не персонально для фараонов – их возводили
«для себя». Отбоя от желающих участвовать в строительстве не было – мы
упоминали об этом в начале статьи.
Выдающийся историк советского периода Л.Н.Гумилёв использует термин «комплиментарность»,
т.е. подсознательное ощущение взаимной симпатии и общности людей,
определяющее деление на «своих» и «чужих»; именно комплиментарность у
Гумилева положена в основу определения этноса. Автор данной статьи считает,
что взаимоотношения между членами небольших, тесно связанных групп людей,
перед которыми стоит задача совместного выживания (имеются в виду в т.ч. и
этнические и протоэтнические образования), определяются коллективным
бессознательным. При этом коллективное бессознательное понимается не так,
как у К.Г.Юнга, а на постюнгианский манер – то есть как совместный (групповой)
реактивный ум, совокупная болевая память организмов, обусловленная
физическими страданиями, болезненными эмоциями и переживаниями, стрессами,
шоками, негативным жизненным опытом и т.п. Чуть выше, в одной из сносок,
приводилась краткая характеристика реактивного ума.
Многие этнографы отмечают чисто функциональное отношение общинного
человека к окружающим вещам и предметам. Так, ожерелье из зубов животного
делается не «просто так», а с целью защиты от зверей; рисунок на камне или
кошме символизирует магическую связь с тотемом или высшими силами и т.д. и
т.п. Американский исследователь Африки Колин М.Тернбул, наблюдая жизнь
племен, поражался, почему у них принято во время уборки выкидывать из
хижины действительно прекрасные произведения народного примитивизма (статуэтки,
украшения, «безделушки») и оставлять на месте работы, порой более грубые и
безвкусные, на взгляд европейца. Причина же здесь – в разных критериях
оценки красивости. Люди на определенном уровне развития общества видят
красоту достаточно узко – с точки зрения их внутреннего, наполненного
духами мира, с одной стороны, и практической потребности, с другой. См.
также: К.М.Тернбул. Человек в Африке. – М., Наука, 1981.
Территориальная изоляция различных групп людей была вынужденной – из-за
отсутствия или неразвитости инфраструктуры, транспортных средств и средств
связи. Следствием являлся низкий уровень коммуникаций и замкнутость
коллективов. Отсюда – предпосылки для существования общин.
Чем больше общинное начало, тем соответственно меньше индивидуальное
человеческое начало, и наоборот. Общинное человеческое начало тоже может
существовать, но в данном случае оно в группе будет как бы размыто – одно
на всех.
Крупный город государства Хорезм, находился на территории современной
Туркмении.
Кодекс правил Чингисхана, очень жестокий и безжалостный, с одной стороны,
и основанный на общинном равенстве, с другой. Так, к примеру, если конник
встретил в степи другого конника, то обязан был, в соответствии с законом,
предложить ему, как равному, еду и питье – на случай, если тот нуждался.
Несоблюдение этого требования влекло за собой смертную казнь.
Первое упоминание о применении артиллерии, например, на Руси относится к
1382 г. Пушки активно использовались турками при осаде Константинополя в
1422 году, – собственно говоря, с этого времени и ведется официальный «международный»
отсчет истории огнестрельного оружия.
К примеру, и сегодня на мусульманском Востоке «победить» нередко означает
наказать противника, навлечь на него несмываемый позор, унизить врага, а
вовсе не выиграть военную кампанию в буквальном смысле слова. Если угодно,
– одержать нравственную победу.
Женщины нередко были чужеродными в общине, их завоевывали, похищали или «выменивали»
где-нибудь на стороне. Даже русское слово «невеста» в буквальном смысле
сперва означало «невесть откуда взявшаяся».
Пример реактивного мышления: всё равно всему. Напомним, что реактивный ум
мыслит категорией тождества. За состояние страха, горя обычно отвечает
реактивный ум.
Символическая победа или символическое поражение в настоящем, вооруженном
поединке со временем привели к появлению спорта.
Основная часть погибших приходилась на начало схватки, после чего оружие у
большинства воинов постепенно тупилось. По-настоящему острыми, крепкими
клинками, которые невозможно было затупить, владела лишь воинская
аристократия (поэтому элитные мечи и сабли стоили баснословно дорого).
Челубей и Пересвет – представители соответственно монгольского и русского
войск, которые вступили в показательный поединок на Куликовом поле 8
сентября 1380 г. После их поединка началось Куликовская битва.
Многие знаменитые сражения прошлого не оставили после себя каких-либо
материальных подтверждений. Достаточно упомянуть Таласскую битву 751 года
(единственное в истории военное столкновение арабских и китайских
завоевателей Средней Азии), битву на реке Калка в 1221 году (первая
встреча русских с татаро-монголами) и др. Само по себе это не может
служить основанием для сомнений. Но с учетом знаковости и символизма тех
эпох предстает перед исследователями в определенном свете.
Видно, что в любом случае, при действии принципа замещения, неодушевленное
будет обладать нематериальным началом, которое имеет определенную власть
над людьми или заключает в себе некие силы.
Абстрактное мышление у [условно] древнего человека с легкостью переходило
в конкретное, и наоборот, то есть оба вида мышления были до определенной
степени взаимозаменяемыми. Аналогичную картину мы часто замечаем у детей,
у которых реальный и воображаемый миры соединяются в одно неразрывное
целое.
Внутренняя
(подлинная) индивидуальность – развитая внутренняя свобода, умение
противостоять предписанным схемам и шаблонам поведения и мышления, в т.ч.
определяемым этническими стереотипами, а также неписаными законами
замкнутых групп; психологическая самостоятельность при выборе и принятии
решений, независимость в суждениях и поступках, раскрепощенность;
способность к рефлексии и самоанализу; отсутствие боязни иметь свое
обоснованное мнение, даже если оно идет вразрез с «общепринятым»;
человечность не по букве, а по духу; следование традициям и ритуалам не в
силу внешней необходимости, бессознательно, «потому что все так делают», а
осознанно, в силу внутренней потребности самовыражения, отношение к
церемониям как к высшему искусству.
Многочисленных правил и табу, порой необъяснимых для постороннего человека,
хватало в любом общинном обществе – ныне они часто воспринимаются как
приметы. Хватало их и у русских, и у народов, населяющих современную
территорию России. Скажем, на лошадь разрешалось садиться только с правого
бока, доить корову также следовало с правой стороны, соль из рук в руки ни
в коем случае не передавалась, веник в доме нельзя было поднимать выше
стола, как, впрочем, нельзя было передвигать и сам стол (он «переходил по
наследству» от старых хозяев к новым). И т.д. и т.п. Мелочно
регламентировались абсолютно все стороны жизни и быта. Это касалось –
особенно! – и еды: как есть, что есть и т.п. У русских, если ели из одной
миски всей ватагой, нужно было следить, какую часть варева ты зачерпываешь
ложкой в первый раз, во второй и т.д. (на третий раз мяса брать не
полагалось, чтобы «черта обмануть»). Четко разграничивалось, что кому есть,
в какое время суток и даже в какое время года. Известно о кастовом
различии питания на Востоке – в Индии, Японии и других странах какие-то
группы населения могли есть рис, какие-то – рыбу и т.д. У ацтеков четко
оговаривалось число съедаемых лепешек в зависимости от возраста,
социальной группы. У гавайцев женщинам запрещалось под страхом смерти есть
тропические фрукты – ананасы, апельсины и др. Понятие «женской» и «мужской»
еды хорошо знакомо жителям Средней Азии, например киргизам, которые
искусно разделывают приготовленное мясо, голову, и различные их части (куски)
подают сидящим за столом (достарханом) в соответствии с очень сложной и
строгой схемой, по иерархии.
Любой народный эпос, поскольку складывался в условиях отсутствия
письменности, то есть в общинное время, «непсихологичен» по существу. Во
внутренний мир героев – то, что герои чувствовали, переживали, с учетом
всех нюансов, тонкостей и оттенков, – сказители никогда не проникали,
ограничиваясь в лучшем случае однозначными словами: «закручиниться», «разгневаться»
и т.п. Зато в эпосах активно описываются внешние действия – битвы, походы,
поединки, которые, как мы помним, в действительности являются продуктом
присущего народному творчеству символизма, знаковости.
Надо полагать, что родственные связи (формальная принадлежность к роду)
воспринимались как некий знак, обязательный символ, – это к вопросу о
свойственном общинному мышлению символизме.
Повторяемость означает обезличивание каждого конкретного момента времени,
что хорошо укладывается в психологию общины.
Теория прамонотеизма разработана выдающимся австрийским религиоведом
В.Шмидтом. В своем фундаментальном двенадцатитомном труде «Истоки
представлений о Боге» (1912-1955) Шмидт доказывает, что первоначальной
религией человечества был монотеизм, что за всем многообразием
существующих верований, в т.ч. у самых отсталых народов, можно обнаружить
остатки этой древнейшей веры в единого Бога-Творца. По мнению Шмидта и его
последователей, прамонотеизм предшествовал всем формам религии, и лишь
впоследствии к нему примешались различные тотемические, фетишистские,
магические, анимистические и другие элементы. Таким образом, иудаизм,
христианство и ислам представляют собой возврат людей к изначальному
монотеизму их далеких предков.
Отчества сегодня сохраняются у русских, арабов, некоторых тюркских и даже
скандинавских (исландцы) народов.
Такой обычай сохраняется и сейчас, если говорить об имени, которое
записывают в метрику, и имени, даваемом при крещении.
Вплоть до недавнего времени религиозными правилами и обычаями запрещалось
произносить вслух собственное имя Бога – Яхве (Иегова). Этот запрет
особенно строго соблюдался в иудаизме.
Любопытно, что клички чаще всего отражают какие-либо внешние черты, а не
то, что скрывается за ними.
Присущее ему человеческое начало будет незначительным.
Чем больше страданий, – а чувство голода относится к страданиям, – тем
меньше человек склонен любоваться прекрасным; если страдания приобретают
перманентный характер, как в мрачные доисторические и субисторические
эпохи, то впору говорить о чувстве «антипрекрасного» в человеке. Отсюда –
и истоки многих религий, пытавшихся по-своему помочь верующим обрести
душевное равновесие (к примеру, основная идея в буддизме – мир полон
страданий, но все они иллюзорны, поскольку иллюзорен мир).
Причины этого явления рассматриваются в других статьях.
Дж.Фаулз в своем блестящем историческом романе-исследовании «Червь» (об
Англии XVII в.) сообщает: красивым считалось
искусственное, точнее, искусное, созданное руками человека, – например,
соборы, дворцы, города, но вовсе не естественное, натуральное, которое
воспринималось как дикое и потому не заслуживающее внимания. То есть
хорошенькая солнечная лужайка на опушке дубового леса у англичан той поры
не пробуждала никаких добрых чувств, если она не была обустроена кем-либо
из местных хозяев.
В данном случае – применительно к Германии.
Любимец французских левых, обласканный Сталиным нобелевский лауреат Андрэ
Жид был приглашен в Москву, выступал на съезде советских писателей и на
траурном митинге по случаю смерти Горького, а затем совершил большую
поездку по СССР. После возвращения во Францию опубликовал очень искреннюю,
великолепно написанную книгу, в которой, не кривя душой, произвел
подробный анализ советской действительности со всеми ее плюсами и минусами.
Книга произвела впечатление разорвавшейся бомбы и на Западе и на Востоке.
Левые подвергли Жида уничтожающей критике, в СССР имя его было запрещено.
Между тем, и сегодня, спустя семьдесят лет, не перестаешь удивляться
наблюдательности, проницательности и тонкости оценок признанного мастера
пера.
Достаточно вспомнить нравы, царившие в окружении Сталина, или повседневную
действительность многочисленных обкомов, райкомов и прочих управленческих
структур. Все они несли друг за друга коллективную ответственность. В
конце 1930-х гг. государственные, административные и партийные органы
вообще были обезличены, поскольку их руководителей ставили на посты и
убирали с постов с поразительной быстротой.
Поэтому незнакомый человек «общинного типа» на улицах Средней Азии без
колебаний обратится к прохожему, даже представляющему иную этническую
группу, со словами: «брат», «братишка» (при условии приблизительного
совпадения возраста – возрастная группа также должна быть одинаковой).
Видимо, в этом заключены истоки народного примитивизма – в данном случае
общинного творчества.
Как и в старину, когда никакого представления об авторстве и авторском
праве не существовало. Вот что пишет, к примеру, А.Я.Гуревич в своей
работе «Категории средневековой культуры»: «Автор, будь то создатель жития,
саги, проповеди, миниатюры, рукописи или какого-либо технического
усовершенствования, рассматривал свое творение прежде всего с точки зрения
коллективной, артельной работы над целым, которое уже было ему предзадано.
Такой взгляд не исключал авторского самосознания, но творческая самооценка
заключалась не в противопоставлении себя миру, не в утверждении своей
самобытности, несхожести с другими, а в смиренно-горделивом осознании
мастерства, с которым автор выявил и сумел применить унаследованные «цеховые»
навыки и знания, в том, что он с максимальной полнотой и совершенством
высказал истину, принадлежащую всем» (цит. по: И.С.Кон. Открытие «Я». –
М., Политиздат, 1978, с.180).
Примером служит реакция человека на какой-нибудь знак. Допустим, в Средней
Азии принято, принимая гостя, постоянно подливать ему чай – при этом пиалу
нужно наполнять не до краев (чем меньше объем налитого чая, тем больше
уважения к человеку, потому что чай приходится подливать чаще). Если же
гостю налить сразу полную пиалу, это будет воспринято как заведомое
нанесение обиды. Таким образом, обычное бытовое действие рассматривается в
качестве знака и понимается соответственно.
Пример: девушка по-приятельски разговаривает с парнем и, по ходу дела, с
иронией говорит ему: «Ты дурак!» Выражение вполне недвусмысленное, но
молодой человек ничуть не обижается, потому что умеет мыслить отвлеченно и
по-своему оценивает конкретный оборот речи. В иной ситуации, если фраза
произнесена угрожающим или не допускающим возражения тоном, она на
подсознательном уровне будет пониматься «адресатом» более буквально. В
этом плане важно, не что
сказать, а как
сказать.
Представляется справедливым провести параллель между личностным,
индивидуальным началом, с одной стороны, и человеческим началом, о котором
шла речь в начале статьи. Во всяком случае, на взгляд автора, у них общие
корни.
Автор придерживается и такого определения реактивного ума: реактивный ум
есть совокупная болевая память клеток всего организма; применительно к
человеческим системам: реактивный ум есть совокупная память всех членов
коллектива, вмещающая в себя коллективный отрицательный опыт и негативные
эмоции, препятствующие совместному выживанию или снижающие его потенциал.
Мнимая опасность может часто происходить от недостатка знаний об
окружающем мире.
Что, естественно, не отменяет чисто биологическое чувство страха,
известную осторожность и даже нерешительность в ответственный момент.
Наследие этой идеологии остается у индейцев и сегодня. В Мексике ежегодно
с шумом отмечается День Смерти, в котором, правда, много жизнерадостного,
несмотря на название; символом его являются черепа, скелеты.
Убитых (умерших) грудных детей, тем более некрещеных, из крестьянских
семей, в прежние эпохи почти наверняка в число жертв не включали. С другой
стороны, к числу оставшихся в живых, по-видимому, не относили
представителей религиозных меньшинств, «инородцев», рабов, заключенных и
т.п.
Примерами могут служить «Робинзон Крузо» Д.Дефо (1719) и «Путешествие
Гулливера» Дж.Свифта (1726), чрезвычайно популярные у современников.
Ничего подобного мы не находим в большинстве древних памятников искусства
(может быть, за исключением немногих текстов Священного писания). Народный
примитивизм обходил тему страданий стороной. Так, на средневековых
лубках-иконках часто можно увидеть распятого Христа с совершенно
безучастным, бесстрастным выражением лица, что по тому времени
воспринималось как норма.
Декларация независимости США 1776 г. впервые декларировала право на жизнь.
Последнее соответствует возросшему человеческому началу в индивидууме.
РЕЗЮМЕ
Эта замечательная статья
отражает механизмы зомбирования сознания подсознанием
(принцип перенесения, принцип
замещения и принцип обезличивания) не только в
истории. Эти принципы работают повсеместно, ежечасно, ежеминутно, в том
числе и во всех научных сферах.
Ниже приведена еще одна
статья О.Я. Бондаренко ("Философская
притча"), которая раскрывает эту тему с новых сторон.(Беляев
Михаил Иванович).
|



 "Каждая
цивилизация в определенном возрасте имеет возможность возвысить, или
разрушить себя. Если делается выбор в пользу возвышения, то возникает
импульс, позволяющий появиться учениям об утерянных законах сущего". (Высший
разум, ченнелинг).
М.И. Беляев, 2015г,©
"Каждая
цивилизация в определенном возрасте имеет возможность возвысить, или
разрушить себя. Если делается выбор в пользу возвышения, то возникает
импульс, позволяющий появиться учениям об утерянных законах сущего". (Высший
разум, ченнелинг).
М.И. Беляев, 2015г,©